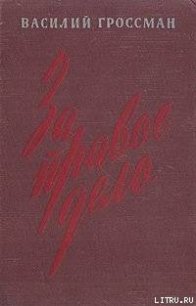Оборона Сталинграда - Гроссман Василий Семенович (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустынна Волга; темная вода бежит под облачным осенним небом — холодом веет от нее. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов. С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством корежущей землю.
— Как можно спать при такой бомбежке? — спрашиваю я бойцов.
— Да вот спим, — говорят понтонеры. — День не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и все равно заснешь.
И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед; русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».
И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.
Немцы неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:
— Разрешите доложить: кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами. Двухсоткой, прямое попадание!
— Немедля варить второй обед в котле, — сказал Перминов.
Жизнь упряма, крепок наш человек — его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему. Пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба — кладбище. Среди желтых опавших листьев стоят строгие холмики — могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти.
Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника — чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.
Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы. И, конечно, именно сержант Власов — великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованых ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, — и есть — выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.
Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда: очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня! Я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»
Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах — уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне — за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой.
Провожали его родные без водки, без песен — Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стираных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню, — человек могучей души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе.
И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступленной жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже: Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.
Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся на контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.
Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.
Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь — вода вскипала от частых разрывов. Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:
— Вылезайте. На тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.
Как только не просил, не уговаривал его Власов!
— Вылазь к чертям собачьим! — кричал Ковальчук.— Я на переправе работать не буду. Лучше в плен попасть, чем здесь работать.
Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:
— Знал бы я мотор, я бы его живо спéшил… Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут: «дезертиры вы», говорят. Пришлось хитрость делать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что… Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал…
Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щеки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа…
— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!