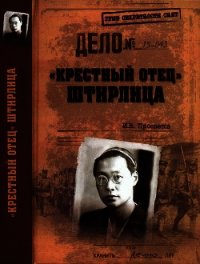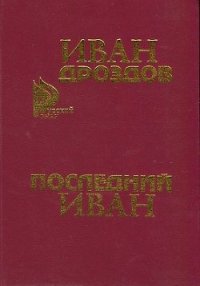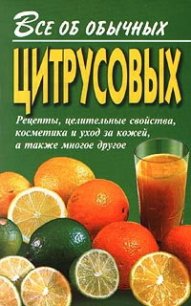Дорогой отцов (Роман) - Лобачев Михаил Викторович (читать полную версию книги TXT) 📗
Дед Спиридон, вытянув шею и подняв бороденку, весь замер во внимании. Он и карман забыл щупать по давнишней привычке. Знает, что все в кармане на месте, а нет вот — возьмет да и проверит свой карман. Раньше, когда не знали за ним этой привычки, ему говорили: «Спиридон Павлыч, так шаровар не напасешься. Ты лучше зарой свой клад». А у Спиридона и было-то в кармане ключ да кисет.
Кузьминична подходила к главному:
— Я машу опять: «Сюда! Сюда!» Танк подлетел к моей хате, и вот тебе тпрр!.. И остановился. Из танка выглянул молодой командир, «Мамаша, дороги знаешь?» Я ему сразу: знаю все до единой. «Лезь ко мне», — говорит командир. Залезла. «Ну, а теперь показывай, веди нас на главную».
Кузьминична передохнула. Глаза ее блеснули. Она во весь голос закричала:
— Гони, сынок! Гони что есть духу!
Казаки теплым дыханием обдали друг друга.
А Кузьминична, сама того не замечая, распалила себя до крайности.
— Гони, голубчик! Гони, милый! — горела она всей душой. — И понеслась наша машина, и поскакала. Кругом все гудит и ревет. Я кричу: влево, сынок! Влево! Там фашисты. Ишо влево, кричу. Ишо! Вижу, враги стадом по лощине стелются. Не уйдете. Не утопаете. Тут по ним пушка наша — бух-бух! Сразу как не было середины. Заметались, поганцы. Сюда ткнутся— тошно, туда качнутся — еще тошнее. А наша пушка — бух-бух! бух-бух!.. А пулемет — тра-та-та… тра-та-та… Батюшки мои, что было. Что было! «Ну, как, мамаша, довольна?» — кричит мне командир. А я ему: «Догони вон того, догони, милый. Уйдет, нечистый. Уйдет». Послушался. Щелкнул рогачом и — вихрем на долговязого. В ту пору я зубами скрипнула. На тебе, сволочь. Это тебе за брата Якова Кузьмича. За моего сына Петьку. За его муки. — Кузьминична вдруг положила руку на грудь и замолчала. Она готова была расплакаться. Но, глубоко вздохнув, подавила в себе всколыхнувшиеся муки и с прежней горячностью продолжала: — Командир кричит: «На главную веди, наперерез». Помчались на главную. На ходу стреляем, на бегу фашистов, которые в живых остались, давим, мнем, а сами несемся все вперед. У командира приказ, командиру надо успеть. Вижу, дорога виднеется. Только чьи это танки навстречу нам несутся? «Наши, — кричит мне командир. — Наши!» Слезы из глаз брызнули. Тут мы и встретились с нашими… Тут мы и зачертили врагов, отрезали им дорогу на отступ. Остановились. Вылезли. От радости смеемся, пушкари друг друга обнимают, меня на «ура» поднимают. Что там было, что там было! А по скорости к нам на легковушке большой начальник подъехал. Мой командир ему докладывает: «Службу свою справили в точности». Потом оглянулся и на меня показал: «Эта гражданка — герой нашего бою». Тот сразу ко мне. Руку мою жмет. Потом подводит к легковушке и велит отвезти меня до моей хаты.
Собрание в один голос закричало:
— Молодчага Кузьминична! Молодчага!
Советские танки ворвались в Калач внезапно, с зажженными фарами. Они перемахнули через Дон с западной его стороны на восточную по немецкой переправе, на которой была, ничего не подозревая, вооруженная охрана противника.
Кольцо окружения замкнулось. Немецко-фашистская армия оказалась в котле. На обложенную армию наставили тысячи артиллерийских и минометных стволов; ее забрасывали снарядами и авиабомбами; у противника завоевали небо, его лишили воды.
Обреченную армию начали дубасить со всех сторон.
Генерал Паулюс, как и многие другие генералы, был верноподданным престолу фашистского величества и потому не случайно явился одним из главных авторов плана «Барбаросса», о котором однажды он докладывал самому Гитлеру. Паулюс был любимцем Гитлера. Уже после сражения под Харьковом летом сорок второго года вся шумливая пресса рейха говорила о Паулюсе, командующем 6-й полевой армией, как о народном герое. Его портреты печатались во всех газетах и журналах. О нем аллилуйствовали все радиостанции Германии. Ему уже готовили пост начальника генерального штаба сухопутных войск, но Гитлер, высоко ценя Паулюса, сказал, что победа на Волге, взятие Сталинграда должно быть связано с именем Паулюса. И генерал-полковнику уже готовили повышение; его ожидали почести, слава, награды.
И вот вместо этого история зло посмеялась над ним и вынесла жестокий приговор: либо плен, либо смерть. Его последнее убежище — подвал универмага. Подвал темный, мрачный, как и все подвалы, и до удушья загрязненный и запыленный. Паулюс занимал самую глухую подвальную комнатушку с цементным полом. Она была до отвращения безобразна и давила своей тяжестью потолочных перекрытий.
В комнату сквозь зарешеченное окошко едва проникал свет через махонькие запыленные стеклышки, половина которых была выбита и заделана фанерой. Она отоплялась печкой-времянкой, сложенной на скорую руку из обгорелых кирпичей, снесенных из ближайших развалин. Печка дымила, потому что труба, выведенная во двор через окошечко, задувалась ветром, и комната наполнялась горько-едучим дымом. В этой комнате Паулюс работал и спал на простой железной койке, застланной легким шерстяным матрацем, накрытым теплым одеялом из верблюжьей шерсти.
Через узкий коридор, напротив, находилась другая комната, примерно такого же размера. Ее занимал начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт, человек себе на уме, высокомерный и грубоватый с подчиненными. Он любил власть, нередко злоупотреблял ею, и Паулюсу порой трудновато было ладить со своим начальником штаба, но он все же его терпел. И вот теперь вместе с ним приходилось отсиживаться в глухом закуте в ожидании катастрофы.
Да, для них была совершенно немыслима трагедия, в особенности для самого Паулюса. Народный герой и — плен. А быть может, и смерть? И об этом, несомненно, думалось. Подвал хотя был крепок и надежен, сюда, однако, непрерывно доносились взрывы мин и снарядов, да и пулеметная стрельба подходила все ближе и ближе к последнему убежищу.
Его, возможно, меньше пугала сама смерть на поле боя, чем стыд и позор пленения. Он, несомненно, был подавлен непостижимым разгромом его армии, провалом его кровного детища, плана «Барбаросса». Ведь в него он вложил весь свой опыт, ум, сердце.
Докладывая о плане Гитлеру, верил в свои расчеты, верил в неизбежность полнейшего разорения Советской России в считанные месяцы. Было над чем подумать, сидя в бетонном склепе и зная свой блистательный провал. Он, верный и послушный генерал, нисколько не сомневаясь, верил в победу немецко-фашистской армии и делал все от него зависящее, чтобы смерч войны прошелся по всем просторам России. И победа, казалось, была близка, неотвратима, как неотвратима смена дня и ночи.
И вот конец — бесславный и теперь уже реально неизбежный. Тяжел удар. Холодеет сердце и раскалывается голова от бессонницы и тяжких раздумий. А думать было о чем. Был Верден, и вот Сталинград. Верден, однако, не разгром. Там в течение многих изнурительных месяцев шло взаимное истребление немецких и французских армий, но Верден не дал ни окружения, ни разгрома. А тут полная гибель самой опытной армии и вместе с нею крушение личной военной карьеры.
Разве могло нечто подобное прийти в голову Паулюсу? Ведь он никакого другого дела, кроме военного, не знал, и война для него была таким же естественным явлением, как естественно человеческое дыхание. Нет, не верится, что Паулюс, готовя план нападения на Россию, боялся нового Вердена. Напротив, высшие офицеры генштаба, приступая к плану и заранее убежденные в своем успехе, старательно изучали обширную литературу о военном походе Наполеона на Россию. Вот с какой тщательностью выверяли они свой втайне задуманный вероломный план нападения на Россию.
И вот все разлетелось в пух и прах. Ошеломляющий крах. Оглушающий шок. Паулюсу, несомненно, в эти бессонные ночи припомнились штабные игры сорокового года, которыми он не однажды руководил. Тогда выходило, что полный и неизбежный разгром России возможен в три месяца. И только в этом было ничтожное расхождение между ним и Гитлером. Фюрер намеревался раздавить Советы в несколько недель, Паулюс — в три месяца.