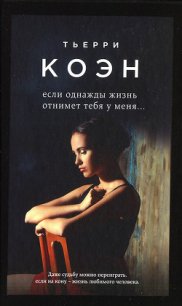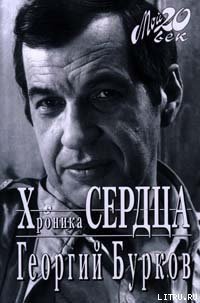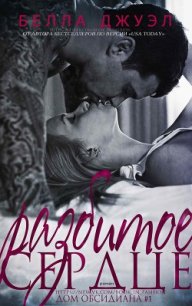Книга о разведчиках - Егоров Георгий Михайлович (полные книги TXT) 📗
Потом поехали через бывшую линию нашей обороны, по нейтральной полосе — тогда здесь оставалось несколько узких полос-низин, по которым можно было ходить в полный рост, а вся остальная местность на полтора-два километра в глубину, а в ширину по всему фронту простреливалась немецкими и нашими пулеметами. И я опять представил сына идущим ночью в Карань за «языком», и опять похолодело в душе.
Я спросил подполковника — где-то здесь, на бывшей нейтральной полосе, было большое полуподвальное кирпичное овощехранилище. В этом хранилище мы всегда отдыхали и когда шли к гитлеровцам, и когда возвращались. Там было тихо и даже, казалось нам, тепло. И мы там всегда курили. Одно только не устраивало нас — выход из овощехранилища был в сторону противника.
Отыскать овощехранилище не представлялось возможным — не ездить же на машине по посевам и искать следы этого давнишнего кирпичного сооружения, устроенного в земле.
Я попросил нашего добровольного проводника показать место, где когда-то выходили на поверхность камни, — это-то место наверняка не засеяно.
— Есть такое место, — поспешно подтвердил он. — Это точно — выходят камни.
Едем по пыльному проселку через поле. В легковом автомобиле — по нашей «нейтралке». Вот этот бугор посреди нейтральной мы обходили то справа — когда шли прямо в Карань, а чаще — слева, чтобы выйти на то скрытое под сугробом овощехранилище, на правый неприятельский фланг. На этом фланге легче было взять «языка» — какие-то сонные они здесь были, может, потому что жили не в избах, а в блиндажах, за селом… Но не о бугре сейчас речь. Где-то справа от него камни должны выходить наружу. Около них в конце января сорок четвертого года наша разведка столкнулась с вражеской. Как взрыв, вспыхнул и мгновенно закончился бой. По нескольку дисков выпустили мы, по полдюжины гранат каждый успел швырнуть в противника. Бой был страшный. У меня ни раньше, ни после не было другого такого. Половина взвода была изранена, но страшнее всех — Яков Булатов. Это была его последняя вылазка.
— Вот это место.
Бог ты мой! Это же не то место, тут же целый каменный карьер!
— Да, — подтвердил подполковник. — Тут теперь каменный карьер. Но место, которое вы вспоминаете, как раз здесь. Посмотрите хорошенько.
Я начал осматриваться. Но загвоздка в том, что сейчас день. Мы же днем здесь не ходили.
Я опять зажмурился и стал мысленно, как будто глубокой ночью, переходить нашу линию фронта, пробираться к селу правее бугра, подползать к камням, опасаясь засады. Секунду-две грохотал бой у меня в голове, и вот я опять отхожу с ранеными. То и дело оглядываясь на убегавших немцев, ребята ведут повисшего на их плечах смертельно раненного Якова. Открываю глаза — вроде бы далеко еще до нашей передовой, вроде бы мы быстрее тогда дошли, чем сейчас я это проделал мысленно. Но ощущение — вещь обманчивая. А хронометров и шагометров мы тогда не носили…
Побывали мы в Карани. Хотелось посмотреть на тот дом, в котором было вырезано бревно под окном и это отверстие превращено в амбразуру, — из нее гитлеровцы поливали нас пулеметным огнем всякий раз, когда мы приходили за «языком». Но дома этого нет. Нет и тех тополей, вытянутых цепочкой, под прикрытием которых мы иногда подходили вплотную к селу. Собственно, цепочка есть, но тополя в ней уже не те. От тех старых тополей видны в траве лишь громадные пни. А рядом с пнями растут уже другие деревья — дети тех, израненных пулями.
— Запоминайте хорошенько, — сказал мне бывший райвоенком. — В следующий приезд ничего этого вы неувидите. — И, выдержав паузу для эффекта, пояснил: — В новой пятилетке все это будет на дне Любарского моря…
Я не особо удивился этому сообщению — по теперешним временам море соорудить не так уж сложно, к тому же с искусственными морями я дело уже имел: на дне Обского моря находился участок земли, на котором стояла первая в моей жизни казарма, плац, на котором я принимал присягу, наконец, где первый и последний раз сидел на гауптвахте, — словом, где я становился солдатом.
А вообще-то чего только в жизни не бывает: вот и еще одно — Любарское море…
Но главная встреча с прошлым в Любаре была у меня впереди — я хотел навестить Якова Булатова. Я уже знал — мне писали красные следопыты, — что Яков Булатов и другие солдаты нашего и соседнего с нами полка перезахоронены — перенесены с кладбища на площадь.
Я бродил по старому городскому кладбищу, стараясь найти то место, где мы хоронили Булатова, нашего Яшку — «заюшку». И не находил.
А на новом месте Яков похоронен рядом с другими в яблоневом саду. Над ними бронзовый солдат с автоматом на груди и с большим венком в руках. Дожди и снег, ветер и зной обрушиваются на обнаженную голову солдата, но он стоит который уж год, склонившись над прахом своих братьев.
Постояли и мы с сыном. Грустно было. Очень грустно. Глядя на нас, приостановились прохожие — видимо, не такая уж здесь редкая это картина — люди, стоящие в скорбном молчании над братской могилой.
Мы возвращались домой, на Алтай. Была ночь. В салоне полумрак. Пассажиры мирно спят, не ощущая двенадцатикилометровой высоты. Монотонно, убаюкивающе гудят турбины. А мне не спится — очень уж много впечатлений. Я еще и еще раз мысленно возвращаюсь туда, в хутор Вертячий, в Радомышль, в Любар.
Жаль, что у меня только два сына. А мне надо бы съездить еще на Курскую дугу в деревни Орловку, в Малую и Большую Моховые, в село Колодезы, где погиб наш командир полка подполковник Мещеряков; и на Кубань съездить бы, где наша 316-я дивизия прорывала знаменитую «Голубую линию», брала Темрюк и получила наименование Темрюкской; и надо побывать на Тернопольщине, где наш взвод конной разведки ходил в глубокий тыл противника, побывать бы в селе Большие Базары, на подступах к которому я был в последний раз тяжело ранен; посетить деревню Желобки Шумского района, в которой похоронен мой младший брат Анатолий, командир самоходной артиллерийской установки — с ним мы шли по параллельным маршрутам от самого Житомира, но, не подозревая об этом, так и не встретились…
3
И вот прошло еще несколько лет. В конце семидесятых годов в составе писательской делегации я еще раз проехал через всю Украину. Нас провезли по городам и селам, показали, как это обычно бывает, достопримечательные места своей республики. Всюду радушно встречали, всюду обильные застолья. Особое внимание было мне — участнику освобождения Украины. Это было приятно. Мы выступали перед рабочими и колхозниками, перед интеллигенцией, возлагали венки на братские могилы, к мемориалам. Но маршрут нашей делегации нигде не пересекался с местами боев моей дивизии. А мне очень хотелось побывать в тех местах — не в Радомышле и Любаре, а на Тернопольщине, на Львовщине, проехать снова по тем местам, по которым мы ходили в тылу у противника, постоять на холмике близ речки, где мы похоронили Николая Виноградова с друзьями, побывать на хуторе Михайли, на месте моего последнего ранения и наконец обязательно посетить могилу моего брата.
В Союзе писателей Украины обещали устроить мне такую поездку. И я ее ждал.
Наконец выдалась пара не очень загруженных дней, делегация собиралась поехать к пограничникам. Я недавно был на границе близ Владимира-Волынского. Поэтому Львовский облисполком дал в мое распоряжение УАЗ-469. И я поехал на Тернопольщину. Меня сопровождал секретарь партбюро львовской писательской организации.
По карте и в основном по расспросам местных жителей и работников госавтоинспекции я начал искать остатки укреплений немецко-фашистских войск середины апреля сорок четвертого года на подступах ко Львову, на разведку которых мы ходили всем взводом конной разведки. Как сравнительно легко я находил свои памятные места в Вертячьем, в Радомышле, в Любаре и с каким трудом я сейчас искал район нашей вылазки в тыл к неприятелю. Хотя бы приблизительно. Именно район. А уж не точно то место, где сидели в засаде на шоссе, где сбежал от нас пленный, привязанный Николаем Виноградовым к дереву, где мы взяли офицера связи. На это я с самого первого вопроса шофера: «Куда поедем?» — не шибко рассчитывал. Я, откровенно говоря, не знал, куда ехать. Сказал, что где-то в районе какой-то Нестеровки и Зборова вроде бы проходила линия укрепления гитлеровцев. И то это — приблизительно. В дневнике у меня не записано ни одно название сел — видимо, я соблюдал тайну многодневного рейда во вражеский тыл. Память сохранила в связи с этой вылазкой название «Зборов». Но когда я сейчас смотрю на карту, то никак не могу представить, как могло случиться, что я, вернувшись из-под Зборова (это северо-западнее Тернополя), был через три дня тяжело ранен и попал в госпиталь в Копычинцы, потом в Волочиск (в дневнике у меня записан Волочаевск и во всех предыдущих четырех изданиях — тоже), потом в Проскуров — все эти населенные пункты южнее и восточнее Тернополя. От Зборова до Копычинцев — по прямой, по карте — больше ста километров. Но если даже считать, что наши позиции проходили намного северо-западнее Копычинцев (но ни в коем случае не западнее Тернополя), даже при этом — неужели мы прошли в тыл на сотню километров! Помнится, что километров на сорок — пятьдесят углублялись мы — во всяком случае такую задачу нам ставили. Опять же с другой стороны — неужели мы сорок километров выходили целых три дня? А то, что три дня, это я точно помню. Не по десять же или пятнадцать километров мы преодолевали за сутки? Наверное, все-таки мы заходили на сто километров во вражеский тыл. А память — что она, память? Ведь ошибся же я в три раза, записывая (а не запоминая) расстояние от Вертячьего до балки Глубокой! Может, и тут подвела память.