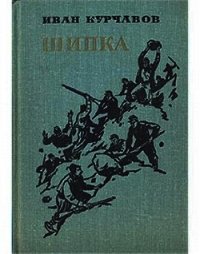Цветы и железо - Курчавов Иван Федорович (книги полностью TXT) 📗
— Каких именно? — насторожилась Шарлотта.
— Об этом когда-нибудь расскажет Ганс. При случае… Так вот, Ганс, проведем мы кормежку русских пряниками, и тогда я должен буду донести непосредственно в Берлин…
— Хватит вам о делах, — сказала Шарлотта. — Вы меня заинтриговали, Гельмут. У меня слюнки текут! Что у вас в машине?
— Терпение и еще раз терпение, — мягко проговорил Мизель. — Наступят сумерки, устроим на ночевку попа и редактора, и тогда все, что есть в моей машине, я предоставлю в распоряжение нашей очаровательной хозяйки!
— И пулеметы с патронами? — Шарлотта лукаво прищурила глаза.
— Все, что может быть съедено и выпито, дорогая Шарлотта!
Шарлотта посмотрела на окно и вздохнула.
— Ах, скорее бы наступили эти сумерки! — сказала она.
В семье Мизелей мало почитали бога. Еще отправляясь на фронт первой мировой войны, Карл Мизель, отец Гельмута, посмеивался над старшими братьями, которые бережно завертывали ладанки с изображением святой Марии и клали их в подшитые карманчики френчей. Братья не вернулись с фронта: один погиб во Франции за несколько дней до конца войны, другой — на полях Галиции. Карл вернулся целехоньким. Все, что он делал потом — крестил детей, посылал их изредка в кирку, а в год совершеннолетия на конфирмацию, — было данью обычаям. Карл переступал со ступеньки на ступеньку своей служебной лестницы и был доволен всем: и положением, и детьми, и перспективой, открывшейся перед семейством после прихода к власти Гитлера. Он был искренен, когда предлагал на солдатских ремнях заменить слова: «С нами бог» — словами: «С нами Гитлер». Фюреру было по душе такое предложение. И хотя он не решился на такую замену, однако не мог не заметить, как предан ему полковник из разведывательного управления.
Вполне естественно, что младший Мизель, Гельмут, ходил в кирку для своеобразного развлечения: там можно перемигнуться со знакомыми девушками, написать записку приятелю и подметить какой-то недостаток у пастора или рассказать пикантный анекдот.
В русской церкви Гельмут Мизель готов был смеяться все время и с трудом сдерживал себя. Все было странным и смешным: и деление молящихся на две группы — справа мужики и мальчишки, слева нелепо вырядившиеся русские старухи; и запах лампадного масла, которым были смазаны лысины и седые лохмы стариков; и то, с каким усердием молящиеся падали на колени и били лбами о цементный пол; и визгливый безголосый хор; и трепетный шепот, слышавшийся со всех сторон; и тусклое мерцание темных самодельных свечей. Кажется, не было в шелонской церкви ничего, что не смешило бы Гельмута Мизеля.
Он не понимал всего того, что нараспев гнусавил привезенный им поп и что подпевали старые женщины, занимавшие левую сторону. Но он понимал, что эти люди молились по-настоящему, с отчаянием и надеждой. Еще он догадывался, что эти люди страдали, но это естественно для русских. «Страдание-то и есть жизнь, без страдания какое было бы в ней удовольствие?!» Кто это сказал? Кажется, Достоевский? А Достоевский — пророк русских. Во всяком случае, Мизель любил и понимал только Достоевского.
А каков поп! Нет, сегодня он не был похож на недавнего пропойцу, готового лакать любую дрянь и в любом месте. Он приосанился и как будто стал выше ростом. Белая парчовая, пусть и поношенная, слежавшаяся риза придавала ему величественность и немирскую важность. Он часто делал паузы, — видимо, забывал текст, но и это могло восприниматься как некая таинственность в отправлении службы. Он заметил Мизеля в толпе, сделал кивок головой: мол, знай наших!..
Мизель стоял в стороне, недалеко от старосты, продававшего в углу свечи. Одет Гельмут в добротную шубу, обут в белые фетровые бурки; староста провел его в такое место, где было мало народу — никто не мешал — и откуда был широкий обзор церкви. Он старался запомнить все, что сейчас видел, чтобы потом посмеяться с Хельманом и Шарлоттой. Он ее приглашал, но Шарлотта сказала, что будет готовить обед и что она была бы очень плохая хозяйка, если бы предпочла зрелище хлебу.
«А в отношении мужчин? Неужели она предпочла Эггерта Хельману? Как дать понять ей, что из себя представляет Эггерт? Неужели Хельман не говорил ей об этом? Но она может и не поверить, подумает, что это ложь, что Ганс клевещет на Карла из-за ревности. А впрочем, это даже интересно, чем все это кончится; нельзя же мешать тому, чтобы кто-то внес веселое оживление в скучную жизнь!»
Из царских врат по ковровой дорожке в сверкающем облачении опять вышел поп. Но теперь лицо у него было багрово-свекольное, с синеватым носом-набалдашником и отвисшей нижней губой. Он отыскал глазами Мизеля и без стеснения подмигнул ему. Майор сделал вид, что не заметил этого. «Он, вероятно, успел приложиться к зелью, — подумал Мизель. — Выпросил несколько бутылок для религиозной требы, а теперь может делать все, что пожелает; надо было в первый день дать столько, сколько требуется — одну бутылку кагора!»
Поп повернулся к молящимся спиной, трижды перекрестился, три раза отвесил низкий поклон престолу и начал молитву.
Все опустились на колени и начали усердно креститься, безголосый хор запел что-то такое, чего разобрать и понять Мизель совсем не мог. Он не знал, что ему делать. На коленях уже были все, даже староста. Может быть, тоже опуститься на колени, чтобы потом было что рассказать Хельману и Шарлотте? Но это слишком! Он оперся рукой о какой-то предмет, представления о котором не имел, и смотрел отсутствующим взглядом на потускневший алтарь, на сверкавшую серебром поповскую ризу, на тусклый свет от тонких, небрежно слепленных свечей.
«А Ганс лучше меня понял, что́ требуется для русских, — думал Мизель, с прежним любопытством и иронией посматривая на молящихся. — Впрочем, и мне это было известно. Но мы пришли в Россию не за тем, чтобы заигрывать с этим мужичьем! Пряник — это временное явление, пока наша армия вновь не перейдет в наступление, на этот раз в последнее и решающее. Тогда мы отбросим пряник и возьмем еще один кнут, в обе руки по кнуту, и посмотрим, что лучше!»
— О господи! — вздохнул за спиной староста, да так громко, что Мизель невольно оглянулся: староста перекладывал в карман из церковной кассы рубли и десятки.
— Иисусе наш всемогущий! — вдруг рявкнул поп таким голосом, что стекла в окне рядом с Мизелем жалобно зазвенели. — Покарай, боже, большевиков нечестивых и армию антихриста — Красную Армию, сокруши ее, положи костьми ее и развей прах ее нечестивый!
Старичок с жидкими белыми волосами, поднявший руку для крестного знамения, задержал ее у уха, не зная, что делать. Потом он поскреб рукой за ухом, оглянулся, попятился назад, поднялся и крадущейся походкой стал выходить из церкви. За ним еще старик, какие-то женщины, мужчины… Староста бросился к двери и стал громко убеждать людей остановиться, что богослужение не окончено, и что господин немецкий начальник должен выйти первым, но старосту никто не слушал. На коленях уже никто не стоял.
Когда поп, напрягая последние силы, рявкнул: «Адольфу Гитлеру и его христолюбивому воинству — многая лета!» — к алтарю были повернуты лишь спины молящихся, не успевших выбраться из церкви, а на клиросе всего лишь один голос прогнусавил:
— Мно-о-о-гая ле-е-ета!
Концерт Боризотова состоялся в зале, который до войны был складским помещением для ивовой коры. Запах плесени, дубленых полушубков и прелой кислой кожи еще и сейчас витал в воздухе. Потемневшая ивовая кора, заготовленная и неиспользованная, лежала навалом. Окон в сарае не было — их забили досками. Старые венские стулья стояли на расчищенной от коры земле и предназначались для «именитых» посетителей. Позади, разбросанные как попало, лежали тюки с корой для остальных горожан. Сцену заменили доски, положенные на четыре фанерных ящика. Доски прикрыли свежей хвоей. Все это сооружение чем-то напоминало возвышение для гроба.
Зрители, сидевшие на стульях и представлявшие «цвет» города Шелонска, скорее были похожи на участников похоронной процессии, когда хоронят человека известного, но неуважаемого и служебная обязанность требует присутствия на этом церемониале. Муркин сидел в первом ряду в расстегнутой шубе. Он как-то странно вжимал голову в плечи и все время озирался, словно боялся, что кто-нибудь ударит его по спине. Его жена — дородная женщина, в прошлом шелонская купчиха — ежеминутно сморкалась в клетчатый платок, который казался слишком ярким для такого унылого и скучного помещения. Дочка, глуповатая на вид девка, лущила семечки, представлявшие для оккупированного Шелонска деликатес. Она изредка взглядывала в сторону начальника полиции — мужчины с бритым красным затылком — и хихикала, пряча лицо в рукава пальто, что, по всей видимости, означало стеснительность и скромность. Слева от жены Муркина сидел длинный и сухой мужчина с желто-зеленоватыми волосами и большими роговыми очками на тонком горбатом носу; на его коленях лежала пачка газет.