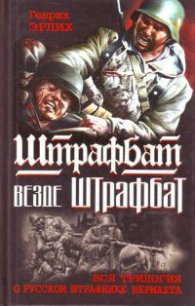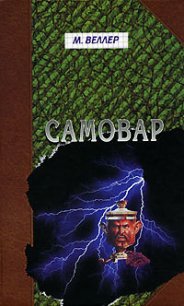Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Шишкин Евгений Васильевич (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Такие убеждения печатно оглашал историк Шумилов, далеко позади оставив свое военное лейтенантство и негодуя по поводу пересмотра некоторыми умами не только итогов последнего боевого этапа, но и всей войны в целом.
В апреле же сорок пятого года, когда будет дан ход Берлинской операции, командир штурмового отряда, гвардии лейтенант Шумилов, методично ведущий пространный дневник, запишет на его страницах:
«После мощной артподготовки мы вместе с танковым взводом ворвались в окраинную улицу Берлина. Бой был ожесточенный. Фрицы яростно сопротивлялись. В каждом доме нас встречали фаустники и пулеметчики. Гитлеровцы могли появиться там, где мы их не ждали. Они вели огонь с вышек, из подвалов, даже из канализационных люков. На улице были противотанковые завалы и баррикады. Некоторые дома горели. Стрельба и грохот не утихали ни на минуту. В небе то и дело пикировали самолеты.
Рядом со мной за танком бежали двое солдат, Завьялов и Ломов. Это были опытные бойцы. Я всегда мог на них положиться. Вдруг недалеко от нас разорвался снаряд. Это фрицы выкатили на перекресток пушку и повели огонь по нашим танкам. Мы стали двигаться вдоль стены большого серого дома. Но впереди разорвалась граната. Ее сбросили, как мне показалось, со второго этажа. Я приказал рядовым Завьялову и Ломову проверить второй этаж этого дома. Входные двери в доме были забиты и забаррикадированы. Окна первого этажа находились довольно высоко. Тогда Ломов, крепкий высокий парень, подсадил Завьялова. Тот уцепился за раму, в которой не было стекла, и стал подтягиваться. В этот момент из канализационного люка неожиданно ударил пулемет. Завьялов упал. У него были перебиты обе руки. Фриц тут же скрылся в люке. Я бросил на крышку люка гранату. Ломов оттащил Завьялова под арку и побежал позвать санинструктора, который был на другой стороне улицы. Как раз в это время в перекрытие арки ударил снаряд. Это опять била немецкая пушка. Бетонная плита повалилась вниз. Из нее, как нервы, торчала арматура. Все утонуло в пыли. Когда мы подбежали с Ломовым и санинструктором к Завьялову тот был еще жив.
Непосредственный штурм города Берлина только начинался…»
Дальше запись в дневнике Шумилова подробно рассказывала о последующих событиях первых часов штурма Берлина, но о рядовом Завьялове уже не упоминалось.
6
В начале мая живительно настоялось весеннее тепло. На ветках деревьев почти однодневно, будто по уговору, разломилась пополам скорлупа вздутых почек. Народилась листва. Село Раменское и окрестности нежно-зелено засветлели. Повсюду воспрянула угретая солнечными лучами земля. Озимый клин пашни вспыхнул ворсом проклюнувшейся ржи, а недавнее бесцветье и блеклость придорожья сменилось свежей травяной тканью. По ней желтыми огоньками рассыпалась мать-и-мачеха.
В ясный полдень под синим сводом неба отмахали крыльями журавли. Они стремились на северную родину, к отчим гнездовьям. Раменские люди до рези в глазах, приложив козырьком ко лбу ладони, следили, как колеблющаяся нить журавлей идет дорогою возвращения. Казалось, вся природа, безотносительная к малым и вселенским человеческим потрясениям, и та шла выстраданным путем к мирному радостному житью.
Елизавета Андреевна с крыльца своего дома тоже глядела на редкое зрелище журавлиного полета. Крылатое чувство уносило ее от земли — и чувство это было светлой материнской надеждой. На свою надежду она уповала безмерно, всечасно, но при этом, как заклятой напасти, боялась появления у калитки письмоносицы Дуни. Доброхотная по натуре письмоносица могла принести беду Елизавете Андреевне с последней вестью о сыне. Даже от самого Федора не надо ей никаких писем — перетерпит его молчание, — лишь бы не было ходу к ее дому почтальонше Дуне, у которой мог оказаться конверт с казенной бумагой.
Порой Елизавете Андреевне хотелось сбежать из Раменского, тайно укрыться ото всех в отцовой сторожке (сторожка так и пустовала после смерти старца Андрея), пересидеть раскаленное ожиданием время, когда очевиден близкий конец войне, но еще непредсказуемы ее потери. Это желание спрятаться от людей, а перво-наперво — от разносчицы писем Дуни, завладевало иногда настолько, что Елизавета Андреевна даже прикидывала, чего взять в «путный» узелок
Однако всему сущему есть свое начало и свой исход, своя горечь и своя радость. Наконец-то грянула Победа! Грянула не вдруг, не по случаю, а по горько оплаченной назрелой неотвратимости. Пробил час заслуги.
— Лиза! Дома ли ты? — крикнула в раскрытое окошко завьяловского дома все та же известительница Дуня. — Войне конец! Победу объявили!… Давай наряжайся — и к сельсовету. Сначала митинг будет, после гулянка всем селом.
Елизавета Андреевна замерла у окошка, даже ни о чем не переспросила, не откликнулась на Дунино сообщение. В ушах — только праздничный звон: «Войне конец! Победу объявили!» Ликующей дрожью проняло каждую клеточку. Елизавета Андреевна от прихлынувшей радости не знала, за что схватиться, чего сделать. Хотела было броситься на улицу, к людям: с кем-то из односельчан обняться, расплакаться на плече у бабки Авдотьи, тут же повидаться с Ольгой. Но потом вспомнила и вторую часть сказанного почтальоншей: «наряжайся… гулянка всем селом…». Она скинула с себя фартук, платок Умылась, утерлась свежим полотенцем, прошлась гребнем по волосам и полезла в большой сундук
Там, в вещевом сундуке, помимо разного «хломошенья», на самом низу, хранилось выходное платье Елизаветы Андреевны. За всю войну ни разу не надеванное, оно ждало нынешней минуты. Перебирая в сундуке верхние вещи, Елизавета Андреевна затревожилась: не побито ли платье молью. Шитое из зеленой шерстяной ткани, оно могло стать добычей незаметной твари. Платье, к радости, оказалось целехонько. Материя по-прежнему прочна, глядится ново, на строчном шитье воротника нигде не лопнула нитка. Только смято платье от долгого лежания. «Надо горячих угольев в утюг — и отпарить, — Елизавета Андреевна суетливо оглянулась на печку, невзначай заметила у подтопка свои резиновые сапоги и засуетилась еще более: — Да у меня ведь обувка есть — к выходу. Пошто я сразу-то не догадалась!»
В том же сундуке, по другой угол, стояли ее мало ношенные, из тонкой кожи туфли, пошитые ей в подарок Егором Николаевичем. Елизавета Андреевна добиралась до них и с улыбкой вспоминала именинный день, когда муж, «сюрпризом» изготовив эти туфли, сам надел их поутру на ее ноги. Она вытащила их, повернулась к свету, чтобы оглядеть, и в этот момент из лодочки одной из туфель выскользнул шелковый комочек, упал на пол. Она испуганно вздрогнула — только сейчас-то и вспомнила про затаенный клад. Оставив туфли, Елизавета Андреевна развязала узел платка, с опаской взяла наследное колечко. Она поднесла колечко к солнечному лучу и, как в прежний раз, изумилась. Внутри брильянта что-то воспламенялось и разливалось через множество отточенных граней белым сиянием.
«По обычаю должна ты это колечко Таньке на свадьбу поднести», — помнила она сказ отца. Поэтому и схоронила колечко в сундуке. «Колечко Таньке по праву!» — сказала она однажды и уже не подумывала о городском скупщике. Вот оно и забылось в туфле-то, а теперь, нежданное, светится, обжигает белым огнем. Нету Таньки-то! Не дожила! Елизавета Андреевна зажала кольцо в кулаке, чтобы не видеть.
Томительный наркоз страха, под которым она была последние месяцы, опять взял свое. Весть о Победе разнеслась мигом, а поименные известия из далекой Германии, наверно, еще только пошли. Рано гулять праздник Его только Федор мог объявить, а не письмоносица Дуня.
В доме Завьяловых грохнула тяжелая крышка сундука. На митинг к Раменскому сельсовету Елизавета Андреевна подошла одной из последних. Хоть и улыбчива, хоть и с поздравлениями, но в повседневном платье, в резиновых сапогах. И все как-то пуглива.
7
Отстоял теплый май. Вот уже июньские знойные дни выстраивались пустой чередой ожидания.