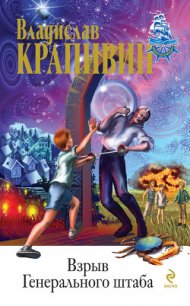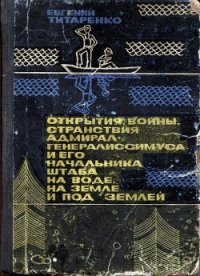Таврические дни (Повести и рассказы) - Дроздов Александр Михайлович (книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Врангель молчит, не смея поднять глаз на духовника. Он его боится? Он боится всякого, кто умен, и всякого, кто хитер, и всякого, кто инициативен. Он любит свою славу и трепещет перед ней, верит в свой рок и боится его.
Он поднимает глаза на духовника и говорит сухо:
— Подайте мне докладную записку.
Весь конец октября в степях Северной Таврии шли ожесточенные бои. Маневрируя, Врангель лучшими своими частями вел смертную игру, не веря в то, что игра уже проиграна.
На рассвете тридцатого октября части 11-й кавалерийской дивизии повели атаки на Агайман. Рассвет был седой, мороз усилился, земля звенела под копытами, как медь. Лазаретные фуры остановились на шляху, покрытом веселыми кристалликами инея. Ветер хлопал холстяными стенкам повозок.
Чайка провела ночь в фуре в сладком бреду и безудержной говорливости. Она то падала в цветные бездны, то видела нездешние края, то радовалась звездам, валившимся с неба прямо на ее сенник.
К утру вместе с гулом артиллерийской пальбы к ней вернулось сознание. Вместе с сознанием вернулась телесная слабость. Она откинула полог и увидела на шляху первых раненых — Кащеев с помощью санитаров перевязывал их.
Несколько человек, уже получивших помощь, сидели на обочине. Между ними ходил ездовой Фомин, слушал их, как детей, и гремел перед ними жестяной коробочкой с махоркой. Раненые были возбуждены и наперебой рассказывали о пережитом.
— Каменева, Ивана Ефремовича? Полкового командира? — кричал Фомину большой, широкий, тяжелый конник. — Христос с тобой, Фомин, ведь это мой командир был! Я у него командовал третьим эскадроном. Под ним лошадь была раздернута на восемь частей. Я сам отнес его в тыл, а он уж — батюшки! — не дышит. Он мне дороже отца, ты пойми это!
— Я это понимаю, — сказал Фомин, — успокойся.
— Третьего дня стоят против нас марковцы, но боя еще нет. Но и тем и этим друг друга видать, и даже видать, как те и эти зазябши. Иван Ефремович трогает своего коня и прогуливается вдоль фронта, противнику назло. Командир-беляк тоже не стерпел и тоже выехал перед фронт. Оки вглядываются каждый в каждого, и что же ты думаешь? Командир-беляк есть ротмистр Семнадцатого Черниговского гусарского полка Залевский, а Иван Ефремович Каменев у него служил денщиком при империализме. Они съезжаются на двести шагов. Тот вынул наган, а товарищ Каменев обнажил клинок, и ведут между собой разговор.
— Конечно, поговорить им интересно, — сказал Фомин.
— Очень интересно. Беляк говорит товарищу Каменеву: «Ты забыл, как чистил мне сапоги и убирал моих лошадей? А теперь командуешь полком? Я всех вас перестреляю и перевешаю. У вас командир конницы Буденный, поди спроси у него, сколько он на своем веку навозу вычистил?» Иван Ефремович отвечает ему: «Оба мы с ним мало навозу вычистили, если ты, ротмистр Залевский, еще на свете живешь!»
— Это здорово он ему ответил.
— Здорово! — в восторге захлебнулся раненый. — Ротмистр — за наган, только не успел и двух выстрелов сделать, как головы его не стало от клинка Ивана Ефремовича. Поквитались, значит. Возвращается наш Каменев к полку и поет: «Ой, яблочко, куда, красивое такое, котишься?» Вскоре подается команда: «Полк, в атаку!» От белого полка остался один пух. Но в этом бою погиб Иван Ефремович.
Второй раненый, немолодой, весь в жесткой щетине, стонал, полусидя на земле. У него не было ноги, и одна из штанин его лежала на изморози, плоская, как полотенце.
Между стонами он сказал:
— А мне в этой атаке — ногу… Иван Ефремович перед своей смертью поставил командиром четвертого эскадрона товарища Лашкевича. Ногу мне сорвало снарядом, я лежу себе на земле, а нога висит на коже. Здесь мимо мелькает товарищ Лашкевич, и я ему кричу: «Товарищ Лашкевич, разве не видишь?» Он на скаку, не говоря слова, рубает меня и отрубает ногу напрочь. После этого я приобретаю маневренность и доползаю до врача Кащеева. И теперь я благодаря товарищу Лашкевичу вместе с тобой лазаретную махорочку курю.
Чайка осторожно спустилась с тачанки и пошла мимо раненых к Кащееву. Тело у нее было легкое и слабое, виски будто точили жучки. Не дойдя пяти шагов, она села на землю, и странное безразличие наполнило ее душу. В трещинах губ выступила кровь. Она смотрела, как Кащеев бинтует раненых, как помогают ему санитары.
Артиллерия вдруг перестала бить, по степи покатился крик людей, наши пошли в атаку. Шум боя был строен. Он начался монотонно, потом разросся; теперь казалось, что где-то треснула земля и этот шум выносится из ее щели.
Кащеев оглянулся на Чайку. На его пальцах блестела свежая кровь. Краешек подбородка у него тоже был вымаран в крови.
— Фомин! — закричал Кащеев. — Засунь дуру в фуру и лупи в нее из чего хочешь, если опять высунется! Сейчас мы берем Агайман. Как возьмем, оставим Чайку в Агаймане — она мешает работать.
«Дуру в фуру»! — с холодным возмущением повторила Чайка. — «Дуру в фуру». Сам ты дурак! Но вскоре она поняла, что не говорит ничего этого и даже не думает, а лежит спиной на дороге, лицом в белое небо, и слова тяжело и низко летают над ней, как голуби. Фомин взял ее на руки и понес. Она видела две широкие жилы, вздувшиеся от напряжения на его шее. Ее тело вдруг обрадовалось собственной слабости и безволию, хотя умом она этого не могла понять.
Это был уже не бред, но такое бессилие, что мир ее опустел, как брошенная жильцами комната, и это был какой-то белый обморок, который длился так долго, как хотел. Ей чудилось, что она плавает в молочной реке, и ей захотелось выплыть на кисельные берега, но она не в силах была этого сделать и, погруженная в молочную воду, покорно отдавалась своему бессилию.
Затем пришли видения. Она долго и горячо разговаривала с бывшим женихом своим, оставшимся в Омске. Жениха звали Нестором, но люди и она вслед за ними называли его почему-то женским именем — Настей, хотя он был немолод, бородат, злобен и хром. Настя в прошлом был человек богомольный; его отец, городской протоиерей, ушел к белым на юг. Настя никуда не уходил, но в революции вдруг стал видеть один беспорядок и часто писал Чайке на фронт испуганные и жалкие письма.
Очнувшись, Чайка увидела неширокую, очень чистенькую комнату, печь, в которой трещали дрова, и небывало ясные стекла в окнах. Кащеев стоял возле нее в сатинетовой синей рубахе и клал ей на голову мокрый бинт. По его отросшей и принявшей красный оттенок бороде Чайка поняла, что не видела его по меньшей мере сутки.
— Мы в Агаймане? — спросила она виновато.
— Кой черт, — сказал Кащеев, — мы уже взяли Отраду.
— Сильные бои?
— Кой черт сильные, — сказал Кащеев, через мокрую тряпочку поглаживая ее виски, — это мало сказать — сильные. Вторые сутки не спим. Начдив Одиннадцатой, Морозов, убит во время погони за белым броневиком. Убит военкомдив Бахтуров. Вы очень слабы, дайте я расскажу вам что-нибудь веселое. Меня, знаете, укусила тифозная вошь.
— Почему знаете, что тифозная?
— Это я говорю из оптимизма. Если не тифозная, то мне же будет сюрприз.
— Я, наверное, не выживу, товарищ Кащеев. — От бессилия Чайка не смогла улыбнуться. — У меня есть письмо неотосланное. К бывшему жениху. Возьмите в моем сундучке и отошлите.
— Можно, — сказал Кащеев, выдвинул из-под кровати ее деревянный поцарапанный сундучок и, открыв его, поверх платья сразу нашел исписанную четвертушку клетчатой бумаги.
Держа четвертушку в руках, он посмотрел на Чайку. Прямо на него уставились ее глаза, расширенные, блестящие и невнятные. Оттого, что лицо ее пылало, оно показалось ему красивым. Ее неожиданная красота смутила его, и он подавленно спросил:
— Ведь ты, Клавдия Горюшина, не была замужем?
— Нет.
— Я тоже… замужем не был, — сказал Кащеев и вдруг, раскрыв рот, бесслезно и безутешно зарыдал, письмо Чайки прыгало в его дрожащих руках, и таким, плачущим, он вошел в ее бред и навсегда остался там жить.