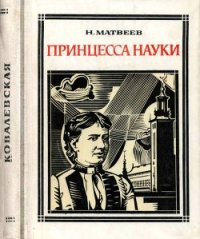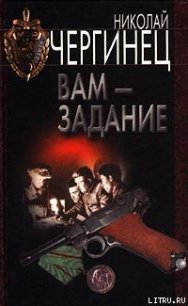Пароль — «Брусника» (Героическая биография) - Матвеев Николай Сергеевич (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
На регистрацию шли неохотно, но все-таки шли. Одни — чтобы выяснить, в чем дело, а потом уйти, другие — чтобы выполнить, как им думалось, простую формальность. Но у фашистов были свои планы. Вблизи театра расположились немецкие солдаты с винтовками. Когда первая группа мужчин приблизилась к зданию театра, их ловко окружили и, уже никуда не отпуская, повели на Сторожевское кладбище, где, как выяснилось позже, немцы создали гражданский лагерь. Солдаты оцепили растерянных и недоумевающих людей, а при попытке покинуть лагерь, не вдаваясь ни в какие объяснения, безжалостно расстреливали их на месте.
Никто больше не шел добровольно на регистрацию, и фашисты начали без разбора хватать всюду всех мужчин и «сортировать» их на военных и штатских. Основной приметой для такого разделения являлась прическа: всех остриженных под гребенку считали красноармейцами и направляли в лагерь для военнопленных. Условия в этих лагерях были ужасны: пленных оставляли без воды и пищи по нескольку суток. Особенно тяжело было переносить отсутствие воды, а если при этом учесть, что совсем рядом перед глазами измученных людей текла река, то страдания становились невыносимыми. Наиболее решительные пробовали спуститься на берег, но смельчаков методично расстреливали. Возле лагеря стояла толпа женщин, пришедших к своим близким. Время от времени им разрешали передать в лагерь немного пищи и воды, но, так как среди задержанных было много приезжих, к которым никто не мог прийти, местные жители делились с ними, и этих передач хватало ненадолго…
День ото дня к военнопленным подойти становилось все сложнее. Правда, в самые первые дни оккупации фашисты, чтобы завоевать симпатии местного населения, отпускали домой военнопленных минчан. Если какая-нибудь женщина, придя в лагерь, подтверждала, что там находится ее муж, отец, сын или брат — житель Минска, то его отпускали. Многим пленным спасли жизнь такие самозванные родственники…
Но так продолжалось недолго.
Через некоторое время в четырех километрах от Минска в деревне Дрозды фашисты огородили колючей проволокой небольшой участок земли и организовали там концлагерь. Вот туда-то без суда и следствия сгоняли под конвоем задержанных и держали там, несмотря на то, что люди гибли от жары, голода и жажды. Из этого лагеря уже нельзя было уйти только потому, что ты местный житель. Теперь фашисты уже не пытались заигрывать с местным населением. Начались массовые расстрелы евреев. Хотя даже незнакомые люди сплошь и рядом отдавали свои паспорта, чтобы выручить человека, попавшего под подозрение, их старанья были напрасны: немцы безжалостно расстреливали евреев.
Мария уже знала обо всем этом, она вместе с другими женщинами приходила туда, где держали пленных, передавала им хлеб и воду, но все время остро чувствовала, что этого мало, что нужно делать что-то еще, что-то большее.
«Надо действовать!» — эта мысль неотвязно преследовала ее, не давала покоя ни днем, ни ночью.
Стоило Марии лечь, как перед ее глазами возникали разрушенные дома, груды битого кирпича на месте добротных, красивых зданий, заборы, на которых были наклеены объявления на белорусском и немецком языках.
Все объявления, хотя на первый взгляд говорили о разном, сводились к одному и тому же — они запрещали людям жить.
«За оскорбление немецкой армии — смерть».
«За укрытие беглых военнопленных — смерть».
«За укрытие оружия, боеприпасов, радиоприемников — смерть».
Большинство объявлений были на обычной бумаге, а некоторые — о смертной казни — на ярко-красной, как будто кровь невинных жертв выступила на бумаге.
А вперемешку с немецкими объявлениями на остатках стен — углем, мелом или просто выцарапанные чем попало — взывали о помощи и справедливости написанные разными почерками лаконичные строчки.
«Где вы? Я нахожусь…» — далее следовал адрес и подпись. Люди искали своих близких.
Каждый день приносил все новые запреты. Появился приказ, в котором сообщалось, что за укрытие «коммунистов, комиссаров и большевиков — смерть», а за выдачу их — награда. С немецкой точностью указывалась сумма, положенная за коммунистов и комсомольцев. Разве можно было спокойно жить, видя и помня все это?..
Мария поняла, что оставаться сейчас в городе опасно, надо уходить и искать связь с теми, кто уже начал действовать. Но сначала она решила пойти на стекольный завод к сестре и выяснить, где дочь. С трудом она добралась до завода «Октябрь» и застала там Тамару. Оказывается, девочка сразу же, как только услышала объявление по радио о начале войны, умолила взрослых, чтобы ее отправили домой в Минск. Ее с трудом усадили в поезд, но состав так и не дошел до места назначения, до города оставалось еще тридцать километров. Люди пошли пешком, вместе со всеми шла и двенадцатилетняя Тамара. Уже на подступах к Минску встретившиеся солдаты посоветовали беженцам вернуться назад, не заходя в город. И побрела обратно худенькая девочка с упрямым лицом и тонкими косичками. Так шла она несколько дней, оставив за собой сто тридцать километров. Еле живая, со сбитыми в кровь ногами добралась Тома к тетке на стекольный завод.
Осипова появилась на заводе «Октябрь» неожиданно. Сестра встретила ее слезами, дочка красноречивым молчанием, которое часто говорит больше всяких слов.
«Больше ее не оставлю, — решила Мария, — возьму с собой в город, а там видно будет…»
Переночевали, а утром мать с дочерью снова отправились в Минск. Шли медленно: у Томы болели ноги. Впрочем, если бы даже и не болели, быстрее идти было невозможно: впереди них шли люди. Шли густой толпой, очень медленно. У многих не было сил идти быстрее, они уже прошагали изрядный кусок земли, и невольно остальные включались в этот ритм и тоже шли, сдерживая шаги, как это бывает на похоронах, где все равняются по самым первым, по тем, кто идет за гробом…
Когда Мария с дочкой дошли до уже занятых немцами Осиповичей, девочка не смогла идти дальше, заболела. Сначала Мария растерялась. Остаться в чужом, оккупированном врагом месте с заболевшей дочерью казалось немыслимым. В голову приходили дикие мысли — пойти в больницу, дать телеграмму домой, на работу в Юридический институт, в конце концов обратиться за помощью в райком партии. Но мимо проходили чужие патрули, и не было больше той жизни, которая была так привычна, так нужна. Не было ни больницы, ни телеграфа, ни Юридического института и уж подавно райкома. Был вот этот краснощекий немец с приклеенной к нижней губе сигаретой, стоявший, слегка расставив ноги, посреди улицы и проверявший документы у испуганной девушки. На груди у него висел автомат. Он стоял уверенно, как хозяин, а девушка сжалась, втянула голову в плечи, как нахохлившаяся птица, не смея поднять глаза. Наконец солдат протянул бумаги. Девушка поклонилась и заспешила прочь. Он был хозяином, а она рабыней. Так, во всяком случае, хотелось думать этому красномордому солдату и так не хотелось думать Марии. И, может быть, именно в эту секунду Мария с предельной ясностью поняла, что будет рисковать жизнью, скрываться, перевоплощаться, красть, стрелять — делать все, абсолютно все необходимое для того, чтобы именно она, Мария Осипова, ее дочь Тамара и только что ушедшая девушка были хозяевами, а не этот вот немец с автоматом на груди.
На второй день пребывания в Осиповичах Тамара почувствовала себя лучше, и Мария Борисовна стала искать хоть какую-нибудь возможность добраться до Минска. На статную черноволосую женщину с озабоченным лицом обратил внимание немецкий переводчик и остановил ее.
— Кто ты и куда идешь? — спросил он, бесцеремонно хватая ее за отворот жакета.
Мария сразу нашла ответ, и потом много раз ее выручала находчивость.
— Вдова я. Моего мужа и всех родных большевики расстреляли. Вот идем с дочкой в Минск, а она заболела…
Переводчик поверил. Быстро отдал приказание, и Марию вместе с девочкой пропустили на платформу. Вскоре поезд тронулся к Минску.
Удивительная все-таки вещь человеческая психика. Если бы каких-нибудь две недели назад Марии сказали, что она почти три дня будет трястись на открытой железнодорожной платформе с больной дочерью и быть при этом благодарной судьбе, она бы даже не рассмеялась, настолько дикой показалась бы выдумка. А сейчас, полулежа на грязном, выщербленном полу платформы и прижимая к груди спящую девочку, она понимала, что ей повезло, что пешком Тамара, наверное, не дошла бы до Минска. Колеса ритмично постукивали на стыках, усыпляли, и Мария то и дело встряхивала головой, чтобы прогнать сон. Надо было загораживать солнце, чтобы не пекло оно спящего ребенка, отгонять мух. Но эти трое суток пути не прошли даром. В десятый, сотый раз обдумывала Мария будущее, рисовала в своем воображении все то, что сделает, борясь против оккупантов.