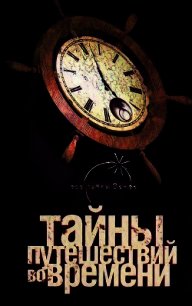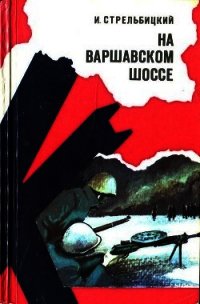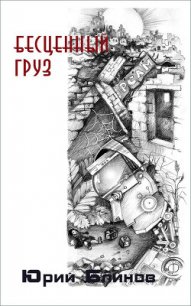Дерзкие рейды (Повести) - Одинцов Александр Иванович (книги читать бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
Однако Нечаев ощутил в этой жалобе на закон едва прикрытое самоосуждение собственной, внезапно прорвавшейся грубости. Поэтому помалкивал, давая дозреть этому раскаянию.
— Не згода балакать о тим, чего сам не бачив, — нерешительно начал Ковеза и замолк.
Нечаев ждал.
— Слухай же… Був у них в полку храбрый командир. И був его замисник, хитрован и скорохват. Вин и зробыв — наклепав на старшего. И — на его место! Полк — поблиз границы. Фашисты шандарахнули — замисника чуток зацепило. Вин швыдко на газике вдогон лазарету. Зато наш командир огнем «максима» прикрывал всех, когда прорывались… А ночью разведчики вытягнули. Не то истек бы кровью. Вось и щемит у него сердце до сей поры.
Разведчик ухватился за обнажившийся корень сосенки. Да, не красноречив он был. Однако за немногие секунды рассказа — почти насильно выжатого из него — так волновался, что не сразу ощутил, как скользнула нога по откосу.
…Прислушиваясь к разрывам снарядов — немцы обстреливали лес из «самоходок», Клинцов сказал:
— Слово «малодушие» у нас имеет лишь один единственный смысл. Это недостаток отваги. Попросту трусоватость, узковато, по-моему. Хотя в главном и правильно. Прислушайтесь к звучанию: малодушие… Мало души, значит. И самое отвратительнее малодушие, когда стараются не ради победы, а ради своей шкуры.
Клинцов помолчал. Переждал: где громыхнет «отшелестевший» над головами снаряд? Многие взглянули на компасы, когда рвануло…
— Снова очередную площадь обрабатывают, — заключил Шеврук. — Зараз подадимся в уже крапленую…
Клинцов наклонил голову, соглашаясь. И продолжал:
— По-моему, у нас важнее, чем в обычном фронтовом подразделении, сознать емкость этого понятия — мало души… Мы с командиром видели, когда набирали добровольцев: некоторые вызвались идти в тыл врага прежде всего потому, что видели множество возможностей отличиться. Притом лично. В этом, вообще говоря, нет ничего плохого. Кому только двадцать, ясное дело, тех обуревает стремление проявить себя. Помнишь, — Клинцов быстро повернулся к Шевруку, — как мы перед отходом свои восемнадцать лет вспоминали?..
— Еще бы! — кивнул тот. — И ты рассуждал о нашем социалистическом гуманизме. Полезно б и хлопцам послушать.
— Это при случае!.. — ответил Клинцов и продолжал: — Как видите, ожидания оправдались. Каждый новый день у нас чем-нибудь отличен от предыдущего… Но вместе с тем убедились мы, что и наши враги также не трусливы. Редко поддаются панике даже при внезапнейшем на них налете. Не трусливы, но малодушны!.. Вот она, по-моему, самая суть. Обесценена человеческая жизнь в их глазах — вот основа гитлеровской военной муштровки. Ведь подлинно человеческие чувства, — к примеру, чувство боли за убиваемых неарийцев — недостойны верноподданного фюрера. Значит — опасны! Замысел нацистов — уничтожение целых народов — требует омертвления человеческих чувств. Отсюда и беспощадность объявляется доблестью. Малодушие ведет к бездушию, цинизму. Издеваясь над светлыми чувствами, фашистский «зольдат» самоутверждается, возвышается… Надо ли говорить, что этакое самоутверждение чуждо нам! Цинизм — тоже наш враг. Советским бойцам отвратительны всякие насмешки над искренними чувствами, даже над внезапно возникшей симпатией. — Мельком взглянув на Хомченко, Клинцов продолжал: — Сегодня прибавились к нашим трофеям еще шмайсеры и пистолеты. Поделимся с партизанским отрядом. Оружие нужно как воздух. Однако вполне ли сознаем, насколько мы сами нужны друг другу? Настоящие ли мы побратимы? У нас, к счастью, нет погибших. Только нельзя надеяться, что будет везти и дальше. Поэтому запомним: если кто-то сегодня обидел товарища, то завтра может и не успеть загладить свою вину…
Клинцов кивнул командиру: беседа, мол, закончена.
Начали строиться. В километре к северу все еще бухали снаряды. Но сейчас они уже не привлекали внимания.
Отряд направился к изувеченному снарядами сосняку. Бойцы знали, что немцы не будут еще раз обстреливать этот участок леса. Сорок залпов — вот их боезапас. А он уже израсходован. Когда до сосняка — значит, и до привала — осталось не более двухсот метров, командир и комиссар пошли рядом.
— В общем, люди наши лучше, чем они считали сами себя в мирной жизни, — сказал Шеврук. — Правда ведь?
— Именно так.
— Я хоть и в сторонке держусь, а всегда слушаю твои беседы на привалах… И соглашался, когда ты толковал о том, что сделаться авторитетным в глазах других бойцов можно, лишь научась не выделять себя среди них.
— А немного позже ты внушал лейтенанту Алексаеву: чем шире и глубже познаешь индивидуальность отдельных бойцов, тем убедительнее вырисовывается наша общность. Единство наше. Верно?
— Вполне. Тут одна и та же идея. Но повертывается различными гранями. Смелый и находчивый Алексаев имеет слабинку: видит в подчиненных лишь исполнителей.
Перед следующим броском был сделан часовой привал. Шеврук прилег между двух с корнями вывороченных сосен. Он слушал, как тихо хрустят ветви под ногами часовых: они прохаживаются, прогоняя сон. Старался отключиться от неуемной тревоги за Ковезу и Нечаева, которые остались с боезапасом в овраге.
Уже в полусне ему вспомнился один новоиспеченный командир полка. Тот уверял, что антипатриотично толковать о ценности отдельного человека, поскольку незаменимых у нас нет.
Шеврук сплюнул. Усилием воли прогнал это неприятное воспоминание.
Командир и комиссар шагали за разведчиками. Приостановились, когда те вдруг бесшумно залегли. И тотчас явственно донесся гомон множества голосов.
— Колонне — визуальный знак: «стой!»
Командир и комиссар подобрались к разведчикам; оттуда подали знак: «ползком!»
До сих пор плотный туман скрадывал также и звуки. Но сейчас — будто сразу все придвинулось. Туман исчезал.
Отряд сомкнулся неровной тесной шеренгой, залег за деревьями. Впереди — широкие полосы пышной картофельной ботвы, а дальше — метрах в двухстах — окаймленное огородами небольшое село. Единственная, просторная улица наводнена перекликающейся и гогочущей солдатней. Пестрое мельтешенье: френчи, шинели, нательные рубахи.
В самом разгаре ловля поросят и прочей живности. Визг поросят, крики кур, блеянье овец тонули в торжествующем хохоте и гомоне немцев.
Шеврук и Клинцов не отрывали глаз от биноклей. Не сразу различили за широченной каймой огородов неровный пунктир яблоневых саженцев. А пониже — совсем уже мелкий, но ровный пунктир одинаковых, чернеющих среди зелени колышков. Это для походных палаток.
Следовательно, гитлеровцы более многочисленны, чем представлялось, когда прикидывали на глазок. Окажись тут лишь одна рота — целиком разместилась бы в избах.
Легко прострочить из пулеметов занятую врагом улицу. Но, во-первых, на улице могут оказаться и советские люди. Например, женщины, которым приказано готовить овощи для походных кухонь. А во-вторых, уничтожение двух-трех десятков гитлеровцев — для отряда успех не так и велик. Ведь вражеское оружие не захватить! Очевидную беспечность немцев надо использовать полнее.
Шеврук повернулся к командирам взводов. Они, как более опытные стрелки, сами прилаживали пулеметы.
— Отставить! — приказал Шеврук. — Алексаев с полувзводом останешься наблюдать. Остальным — назад, к просеке.
Отряд отошел в глубь леса. Вероятно, многие бойцы негодовали на командира и комиссара. Упустить такой случай! Но те будто ничего не замечали.
Время шло, сменялись караулы вокруг стоянки, необычно близкой к селу, битком набитому немцами. Разведчики-связные сновали туда и сюда. Невыносимо томительным становилось ожидание. Слышалось громкое перешептыванье:
— Отцы-то наши, а?.. Чего мешкают?
В эту секунду очередной связной звонко доложил:
— Убирают… Колышки палатные!
— Строиться! — скомандовал Шеврук.
Теплым, солнечным выдалось начало сентября сорок первого.
В реке, вблизи которой ночью проходил отряд, купались немецкие маршевики. Двое часовых прохаживались между песчаных проплешин затравеневшей, обрывистой кромки берега. На проплешинах — поверх сложенных рядком френчей и бриджей — лежали вороненые шмайсеры и пистолеты.