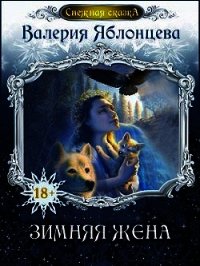Три ялтинских зимы (Повесть) - Славич Станислав Кононович (лучшие бесплатные книги txt) 📗
Между тем было именно так. И до поры маскировка помогала, процветало «торговое дело», действовала явка. И вдруг катастрофа. Его схватили с поличным — с грузом продуктов уже в лесу. Пытали перед казнью жестоко.
Об этом Иван не знал. Знал только, что нет Мити. Но оставался в городе другой близкий человек — теща Зоя Алексеевна. Ей и пришлось бежать по ночному городу к доброму другу, доктору Мухину.
Впервые Дмитрий Петрович шел к пациенту таким образом — лесными тропами, в сопровождении трех телохранителей. Спешили, и не зря. Левая рука Берлянда была охвачена гангреной. Единственный выход — ампутировать. Наркоза нет, инструмент самый примитивный, операционная — крымский лес… И где- то неподалеку погромыхивает бой.
Кончилось, однако, все благополучно. А долечивалась берляндовская четверка уже в Ялте, в военном госпитале.
Вот такая удивительная история. А сколько их еще можно было бы вспомнить, сколько других уже никогда нельзя будет восстановить! Эта пришла на ум, когда разглядывали ту самую карту, показывающую связи ялтинского подполья.
Как-то после шторма увидел я виноградный куст на самом краю берегового обрыва. Куст был невелик и неприметен, а может, показался таким зимой, когда лозы голы. Сам по себе он вряд ли заслуживал внимания, но корни этого растения поражали. Дело в том, что шторм подмыл, обрушил берег, и корни обнажились. Они были мощны и разветвлены, они были больше самих лоз, а в их узловатых изгибах угадывались упорство и энергия. Они пробились в землю на ту немыслимую глубину, где никогда не иссякают живительные и таинственные воды.
Таким видится после всего узнанного и это наше подполье.
ГЛАВА 28
Трофимов проснулся от звуков, показавшихся и странными и очень знакомыми. А теперь лежал, вслушивался в темноту и ничего не слышал. И вдруг — вот оно! Вот! Еще и еще раз…
В комнате было прохладно, но Михаил Васильевич все же поднялся, накинул халат и вышел на балкон. Кричали птицы. На север летел караван гусей. И надо же — вот так всегда — горы закрыты туманом. Позади бросок через море, долгий и трудный путь с рассвета и допоздна. Отдохнуть бы, лечь на землю, расслабить крылья. Сделать это можно на яйле — пустынном горном плато, а оно укутано облаками. И будут кружить гуси-лебеди над побережьем… Сколько? Как долго?
До чего же печальная перекличка… Сердце рвут на части своим криком. И все-таки это светлая печаль. Зима кончилась. Третья военная зима.
Было около полуночи. Понял: не заснуть. И его не обошла эта старческая беда — бессонница. Шевельнулась на своей кровати Лиза. Значит, тоже не спит. Больше в доме никого не было. Редкий случай. Даже Степан в отъезде, вернется только через несколько дней.
Он прошелся по комнате — осторожно, стараясь не скрипеть половицами, не задевать в темноте вещи. Лиза подала голос:
— Тебе нехорошо? Беспокоится о сердце.
— Нет, нет. Спи, пожалуйста.
— Дать капли?
— Не нужно. Она все же приподнялась в постели, и Михаил Васильевич подошел к ней, присел на краешек.
— Виноват я перед тобой, Лиза…
— Что-нибудь случилось? — спросила она с той удивительной интонацией, в которой была готовность принять и разделить все, что бы ни произошло. И его слова, и ее вопрос с каких-то пор стали некой игрой, необходимой обоим. Игрой, напоминающей ласковые и тихие разговоры матери с ребенком. Но сейчас было по-другому.
— …Не злой как будто человек, а оглядываюсь и делается страшно. Никто рядом со мной не был счастлив. Лиза еле слышно рассмеялась, так что он скорее угадал, чем услышал ее смех. Этот смех всегда обезоруживал его, но сейчас он заподозрил в нем притворство и сказал с упреком:
— Зачем ты?
— Вспомнила один старый, еще довоенный разговор… Ты, верно, догадываешься, что, увидев нас, узнав, что мы муж и жена, меня нередко жалели… — Лиза опять рассмеялась. — Особенно женщины. Он знал об этом, хотя и старался гнать такие мысли. Но что же дальше?
— Меня всегда это просто смешило. Что они знают о тебе? Обо мне? О нас? Что они, эти тёлки, понимают в любви?.. Не считай меня слишком злой, но всегда это сочувствие выражали женщины, которых я отношу к категории тёлок. Были и другие. Те присматривались к нам, особенно к тебе, с любопытством. А мне иногда завидовали. Потому что если женщина в спокойное, мирное время, когда нет чрезвычайных обстоятельств, готова отправиться вслед за мужчиной сначала в безводную песчаную пустыню, затем на противоположный край света в ледяную пустыню, а потом вообще в океан, значит, она любит его и не может оставить ни на день… Ну а мужчина, который вызвал такое чувство, заслуживает по меньшей мере любопытства… Лиза замолчала, прислушиваясь к тому, что Михаил Васильевич давно уже слышал: в темноте опять раздавались все те же странные, печальные крики.
— Что это? — спросила она.
— Гуси-лебеди…
— Как тревожно! А Трофимов подумал: и верно — тревожно. Именно тревожно. Точнее не скажешь об этой птичьей перекличке.
— Куда они теперь? К нам на север? Он благодарно пожал ей руку за это — «к нам». Да, на север, в тундру, где скоро разольются озера, заплещется рыба, поднимутся травы и начнется нескончаемый день…
— К нам.
— Из Африки? Это тоже было когда-то игрой, напоминающей добрый, улыбчивый разговор отца с дочкой. Но сейчас было и не до этой игры.
— Ты не закончила…
— А что кончать! Всегда это меня просто смешило, а в тот раз сама не знаю почему рассердилась и в ответ на сожаления выложила всю правду… Трофимов, съежившись, будто в ожидании неминуемого удара, молчал.
— …Как встретила тебя глупой девчонкой. Ты показался мне — только не смейся! — похожим на Печорина, который оставил военную службу и решил вдруг заняться хозяйством. Сейчас понимаю, что это и в самом деле смешно… Я даже в мыслях не держала, что буду когда-нибудь твоей женой. Просто хотелось быть рядом. Я готова была любить тех, кого ты любил.
— Надя… — только и сказал он.
— Да я готова была быть на месте умирающей Нади, лишь бы ты меня любил, как ее. Мне даже казалось тогда — от молодости, наверное, — что человек, которого любят, не может умереть от болезни. Сама любовь представлялась исцеляющей силой… Ты говоришь о счастье. А Люба предпочла смерть разлуке с тобой. Я даже думала: вот одну звали — Любовь, другую — Надежда… А кто я? «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это и за это, и за то…» И говорила себе: не за что меня любить. И когда ты предложил мне поехать с тобой, понимала, что это от опустошенности, и все боялась надоесть тебе…
— Глупая ты моя… Он провел ладонью по ее щеке и вытер слезы.
— Мне даже эта печатка на книгах невыносима. «Из библиотеки Муратовой»… Ты будто напоминаешь, что умрешь раньше меня и соглашаешься с этим. А как же я?..
— Ну вот, теперь я чувствую себя вдвойне виноватым.
— Не надо. Никто ни в чем не виноват. И вообще главное сейчас в другом — дождаться бы.
Дожить бы, дождаться!.. Как он это понимал! Нетерпение было сродни той мучительной жажде, когда ты увидел воду и знаешь, что на сей раз это не пустынный мираж. Но позади уже были высохшие колодцы и почти не осталось сил… Нет, оно было даже более острым и главное — беспомощным. Дождаться — это ведь от слова «ждать». А особенно трудны для ожидания последние минуты.
К счастью, в том, что они последние, сомневаться не приходилось. Может быть, именно сейчас отдан приказ, и на Перекопе и под Керчью громыхнули орудия, взревели моторы… Да, это могло произойти даже сейчас, в это мгновенье.
Гитлеровцы не пытались теперь делать хорошую мину при плохой игре. От прежней самоуверенности мало что осталось. Растрясли в дороге. Понимали, что из Крыма придется бежать, и заранее страшились этого бегства морем. После Сталинграда обещаниям фюрера помочь не верили. Да и чем он мог помочь, когда фронт уже под Одессой! Но привычка к повиновению и злобность были все те же. А Гитлер, как понимал Трофимов, только и требовал злобности и повиновения. Сейчас они готовились хлопнуть на прощанье дверью, и подготовка эта происходила на глазах.