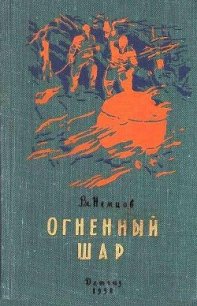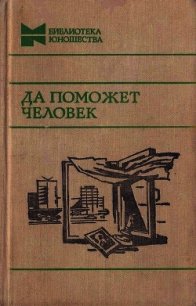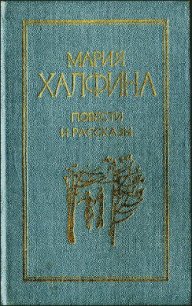Повести и рассказы - Мильчаков Владимир Андреевич (читаем книги txt) 📗
— Ну, что ж. Не хочешь сам идти — силком заставим. Даже потрудимся для вашего преподобия. На руках доставим.
В ту же минуту пятки пана ксендза, все еще упиравшиеся в засохший суглинок дороги, оторвались от земли, и он почувствовал, что его тащат к молчаливой, нахмуренной толпе партизан. От ужаса и позора он закрыл глаза, чтобы не видеть эту грозно молчавшую, нахмуренную толпу.
— Вот, доставил! — удовлетворенно прогудел кузнец и поставил ксендза на землю перед партизанами. Но ксендз не устоял на ногах. Не открывая глаз, он покачнулся и, упав на колени, глухо стукнулся лбом о землю дороги.
В те несколько мгновений, которые потребовались кузнецу для того, чтобы донести папа ксендза от калитки дома до толпы, в душе служителя церкви произошел целый переворот.
Поднятый могучей рукою кузнеца на воздух, ксендз почувствовал, как воротник сутаны туго стянул ему горло. Трудно, очень трудно стало дышать. Ксендзу показалось, что не мягкий, подбитый шелком обношенный воротник сдавил ему горло, а петля из жесткой колючей веревки. Пан ксендз почувствовал, что сейчас, в течение одной-двух минут, решится его судьба, а затем уже настоящая петля перетянет ему горло, и нет никакой возможности избежать этого.
С ужасающей беспощадной ясностью старый паук почувствовал, что для него нет спасения, что вся святая католическая церковь и даже сам папа римский не в силах помочь ему, что этой молчащей толпе не страшны ни проклятия церкви, ни грозные послания ватиканского святоши. Даже страшное для опростоволосившегося служителя церкви судилище консисторской конгрегации показалось пану ксендзу уютным и заманчиво недоступным. Жить! Любой ценой сохранить жизнь. На коленях, унижаясь, вымаливать себе возможность жить. Потом, когда изменятся обстоятельства, он все это припомнит, за все рассчитается, но сейчас, какими угодно унижениями, каким угодно покаянием, только бы купить себе жизнь.
Падая ниц перед партизанами, ксендз даже не почувствовал боли, хотя весьма основательно боднул лбом утоптанную многими тысячами человеческих ног землю. Только по его жирной спине, выгнутой, как дуга, пробежала дрожь, когда он услышал над собой голос чахоточного сапожника:
— Что, страшно стало держать ответ перед народом?. Вставай, не притворяйся. Мы тебя не самосудом, а всенародно судить будем. Всему народу покажем, какая ты гадина. Вставай, гадючье племя!
Одновременно пан ксендз почувствовал, что чей-то сапог непочтительно ткнул его в зад.
— Вставай, — загудел бас кузнеца.
Ксендз поднял голову и, стоя на коленях, посмотрел в лицо стоявших перед ним судей. Ненависть и презрение прочел он во взглядах партизан и, вытянув вперед дрожащие руки, неожиданно охрипшим голосом взмолился:
— Пощадите! — и всхлипнул.
— А ты щадил?! — прозвенел в напряженной тишине голос Юзефа. — За сколько золотых ты меня, Иуда, пилсудчикам продал?
— Пощадите! — еще отчаяннее заскулил ксендз. — Я никого не продавал. Езусом сладчайшим, пречистой матерью его клянусь, не продавал! — снова боднул лбом землю. И тогда в возникшей вновь тишине прозвучал чей-то удивленный и одновременно насмешливо веселый возглас:
— Вот брешет, сука, вот брешет! Смотрите, люди добрые, все, как есть, брешет, а сам Езусом клянется.
В толпе, как первый отдаленный рокот надвигающейся бури, прокатился гул. Пан ксендз выпрямился и, стоя на коленях, протянул руки к Яну Неходе. Он чувствовал, что одно слово этого молчавшего, измученного лишениями человека способно или усмирить готовую прорваться ярость сотен людей и сохранить жизнь ксендзу, или, наоборот, отдать его во власть еще молчавшей, но уже готовой грозно зарычать толпы.
Пан ксендз потянулся, пытаясь обнять колени Неходы, но партизанский вожак брезгливо отступил назад, и одновременно с ним от ксендза отодвинулась вся толпа.
— Братья! — продолжал дрожащим голосом священнослужитель. — Пан Нехода! Пан Юзеф! Я ни в чем не виноват! Я вам все расскажу! Вы сами увидите, что я не делал ничего такого, что запрещено святой церковью! Я все делал так, как предписывает наша церковь! Ну, зачем вы молчите, пан Нехода! Зачем вы молчите, Панове прихожане!? Ведь я тридцать лет живу с вами! Ведь вы же меня хорошо знаете!
По толпе как будто прошел ток, и молчание сразу прорвало десятками злых голосов:
— Знаем, знаем!
— За тридцать лет-то узнали!
— Расскажи нам про Казимириху!
— А моего Гната за что повесили?
— А старого доктора забыл?
— А Кристофа с Паранькой помнишь?
И от каждого нового выкрика ксендз вздрагивал, как от удара метко кинутого камня. Он, задыхаясь, хрипя и всхлипывая, ползал на четвереньках, стараясь обнять колени Неходы или кого-либо из партизан, но они отходили в сторону. Отступая с презрением от ползающего ксендза, люди постепенно повернулись спиной к дороге. Казалось, большая толпа людей стоит и смотрит, а перед ней ползает какое-то противное и ядовитое насекомое, уже полураздавленное, но все еще живое и вредное. Молчавший до сих пор Нехода отбросил веточку, все еще бывшую в его руках, и заговорил. Народ сразу же смолк, внимательно слушал, что скажет партизанский вожак.
— Слушайте, ксендз Поплавский. Перестаньте голосить. Сейчас вас ни стрелять, ни вешать никто не будет, но в дальнейшем нам это, конечно, придется сделать. Именно повесить. Пули вы недостойны. Только это мы сделаем после суда, после открытого всенародного суда. А на суде вы, конечно, все расскажете народу. Да мы вам и не позволим врать или увертываться.
Обрадованный, что непосредственная угроза смерти миновала, ксендз закивал всем туловищем, не поднимаясь, однако, с колен.
— Благодарствую, пан Нехода! Благодарствую, панове партизаны! Я буду говорить, и вы сами увидите, что я всегда только был исполнителем указаний святой церкви и ее папы.
Но торопливых слов обрадованного ксендза никто не слышал. Еще тогда, когда начал говорить Нехода, до слуха стоящих на площади людей донесся отдаленный, но мощный гул. А сейчас этот гул превратился в беспрерывный грохот, и из-за поворота улицы в центр местечка ворвались советские танки. Десятки тяжелых машин с ревом и гулом мчались по шоссе, пересекавшему местечко, по направлению к фронту. Танковые люки были открыты, и высунувшиеся до пояса танкисты о чем-то весело переговаривались с автоматчиками, сидевшими на броне. Не замедляя движения, колонна быстро проносилась мимо восторженно приветствовавших ее людей.
— Двадцать девятый… тридцатый, тридцать первый… — громко считал кузнец, но даже его необъятный бас слышали только рядом с ним стоявшие люди. — Вот силища прет! — восторженно заорал он, когда его счет перевалил за пятьдесят. — Давай, давай, хлопцы, жми!
Толпа восторженно приветствовала танки, шедшие к недалекому фронту. Все стояли спиной к пану ксендзу и не обращали на него никакого внимания. А он, видя, что никто на него не смотрит, поднялся с колен, тоже покрикивая что-то одобрительное и даже помахав рукой танкистам, воровато взглянул направо и налево.
«Слава Езусу! Вовремя подвернулись эти проклятые русские танки. Пока никто не смотрит, можно отойти в сторону. Только бы уйти за угол вон того дома, а там через выгон и «до лясу».
Ксендз сделал один мелкий еще нерешительный шажок в сторону. «Нет, определенно никто на него не смотрит. Все вылупились на эти большевистские чудовища». Пан ксендз осмелел и сделал крупный шаг в сторону, чтобы бочком отойти от толпы, но в то же мгновение ему показалось, что его по правому боку резко ударили железной палкой. Ойкнув, ксендз оглянулся и торопливо поднял вверх обе руки, хотя никто ему этого не приказывал.
Сзади стояли два автоматчика-партизана. Один из них невежливым толчком ствола автомата вернул ксендза на прежнее место. Заглянув в глаза партизан, пан ксендз увидел в них что-то такое страшное для него, что так и остался стоять с поднятыми руками, повесив голову на грудь.
А по шоссе, через старинное польское местечко, под восторженные крики ликующего народа мчались на запад добивать врага советские танки.