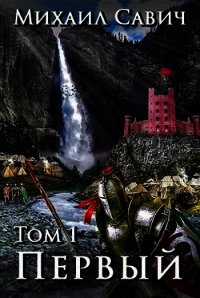Приключения Альберта Козлова - Демиденко Михаил Иванович (электронные книги бесплатно TXT) 📗
Выручил Чингисхан — рыжий, полудикий кот. Если говорить по-честному, то хозяином подвала был он; в городе существовал неписаный закон: кто первый занимал развалину, тот считался хозяином. От нашего дома остались три черные стены, через проемы бывших окон блестело солнце. Мы разгребли снег, постучали по кирпичам и угомонились — стучи не стучи, только весной можно будет растащить балки обвалившихся верхних этажей. Почему-то казалось, что под балками лежат какие-нибудь вещи. Или отцовские удочки, или мамина швейная машинка.
Я стоял в развалине, и странное чувство охватило меня, точно я смотрел на себя со стороны, и я был не я, а кто-то другой, и не верилось, что наш дом, где мы жили всю жизнь, сгорел. Теплилась надежда — мой-то дом остался цел… Рогдай реагировал иначе.
— Давай в подвал заглянем! — предложил он. — Может, кто и живет.
Тропку прокладывал лейтенант Прохладный, замыкал шествие старшина Брагин.
На снегу петляли следы кошек. Мы разбросали снег, спустились в подвал. Кто-то уже побывал здесь — земля по углам была вскопана.
— «Минеры» разминировали, — сказал Брагин.
В военкомате нам рассказали, что в городе орудуют грабители. Они шарят по подвалам.
— У человека мозг устроен по шаблону, — глядя на вырытые ямы, разглагольствовал старшина Брагин. — Например, сдачу мужики всегда суют в левый верхний карман пиджака. Бабы деньги и серьги хранят в левом верхнем углу комода под бельем. Думают, что там самое надежное место. Дурачки! Закопай во дворе под каштан свое барахло, никто не найдет… Нет, тащат в подвал и в правый дальний угол. Бери щуп, тырк — есть, копай и забирай трофей.
— Не учи ребят мародерству, — оборвал Брагина Прохладный.
— Так я не учу, а думаю, — возразил старшина. — Врач, товарищ Павлов, делал с собаками опыты — вставит им в печенку трубку… Собака сидит, в трубке ни шиша. Принесут бульон, в трубке слюна потекла: привычка.
— Рефлекс, — поправил я.
— Нехай рефлекс, — согласился Брагин. Потом понюхал воздух и добавил: — Воняет. Как у тигра в клетке.
Неожиданно в ответ кто-то истошно завопил. Рык был угрожающим. Звуки отталкивались от потолка и стен, точно нас посадили в огромную гитару.
Брагин выхватил пистолет.
Лейтенант Прохладный осветил карманным фонариком подвал. На ящике с песком сидел кот. Огромный, как рысь, и лохматый, как спаниель. Глаза у него вытянулись в щелку. Он нахально облизывался, точно собирался нами закусить.
— Бандюга! — выругался Брагин. — Чингисхан… Ей-богу! Гляди, бородку приделать, капилавку на голову, халат надеть — вылитый Чингисхан.
— Пристрели! — приказал Прохладный. — Стреляй!
— Зачем экземпляр дикой природы изводить? — запротестовал Брагин, которого еще мучила совесть за Полундру.
— Здесь не заповедник, — сказал командир.
— Надо от окон мусор отбросить, — добавил Рогдай.
Брагин поднял пистолет, но кота точно сдуло.
— Стреляный, — с уважением произнес Брагин. — У нас в детдоме водилась собака… На нее палкой нацелишься, сразу линяет, только пыль столбом. Кот с понятием.
— У нас был случай, — вспомнил Прохладный. — В деревне дед спал. Кот в сторонке дремал. Спит дед, молодость во сне видит, захрапел, кадык туда-сюда… Кот как прыгнет, схватил — и каюк, пиши рапорт, и расследования не потребовалось.
Тот кот, из деревни Прохладного, оказался щенком по сравнению с нашим котом. Что там дед… Дед и со страху мог помереть. Не будем говорить о стариках — мы с братом, двое молодых людей, были запуганы, сломлены, терроризированы рыжим бандитом с первой же минуты нашего знакомства. Кот начал партизанскую войну, то есть не давал покоя ни днем, ни ночью. В этой войне не было ни логики, ни правил, ни жалости и тем более спасения.
Мы клали хлеб под бочку, старый таз, ящики… Бесполезно! Кот воровал хлеб, муку, мыло. Это было какое-то всеядное животное. Я уверен, если бы мы спрятали от него мешок битого стекла, он бы нашел мешок и слопал битое стекло. Казалось, что он торгует, ворованным на базаре. Он воровал все в доме, даже спер однажды полкилограмма столовой соли. Она лежала в мешке. Зачем коту понадобилась соль, я не знаю и по сей день.
Он партизанил нахально и безнаказанно. Стоило отлучиться, как он оставлял метку на постели. Приходилось проветривать подвал, а матрац и одеяло выносить на свежий воздух.
Ночью он действовал и в открытую. Идешь, возвращаешься домой в кромешной темноте — в городе-то не восстановили электростанцию, подходишь к дому и вдруг: «А-а-а-а…» — привидение сваливается с неба.
И пока ты лихорадочно ищешь половинку кирпича, чтоб проломить череп хулигану, он уже убежал, затаился в другом месте, чтоб выскочить, когда ты меньше всего этого ожидаешь.
Когда у нас пропали талоны на керосин, терпению наступил конец. Мы сели у «буржуйки», закурили и стали соображать.
— Или мы, — сказал я, — или он.
— Пусть лучше будет он, — твердо заявил Рогдай.
— Такое впечатление, — сказал я, — что его немцы специально оставили вроде мин замедленного действия, чтобы жизнь советским людям превратить в пытку. Скоро наступит лето, люди будут возвращаться. Нужно подумать и о них.
— Да, мы обязаны, — согласился Рогдай, потом вспомнил заповедь ротного, — сам погибай, а товарища выручай.
Идея созрела простая, как и все гениальные идеи. Мы раздобыли кусок колбасы. Ароматной, аппетитной, даже кончиками пальцев мы чувствовали ее вкус, но мы сознательно пожертвовали колбасу на благое дело — мы ее заминировали. И зря.
Колбаса пролежала посредине подвала несколько дней. Перед сном мы смотрели на нее, как верующие на икону, и наши животы пели псалмы, прославляя колбасников во всем мире. Но Чингис не притронулся. Видно, он имел высшее саперное образование. Он смеялся над нами. Он хохотал над нами. Мы были бессильны. Подорвался на мине инвалид Муравский Владимир Семенович.
Инвалид Муравский был профессиональным гипертоником. И хотя ни разу не оказался ближе к фронту, чем на радиус действия тяжелого бомбардировщика, тем не менее он ходил, глубоко припадая на костыль.
Муравский числился в закоренелых холостяках, жил с мамой, тихой и едкой старушкой. Обитали Муравские под лестницей дома № 52. Сложили две стены из кирпичей, раздобыли где-то дверь, смастерили что-то наподобие окна, вместо стекла блестела промасленная бумага. Он зачастил к нам в гости. И надоел не меньше Чингисхана. Гипертоник Муравский любил поучать.
— Я ел мамалыгу! — восклицал он и глядел на нас, точно мы отдали ему кашу из кукурузной муки. — Я ходил босиком…
— Летом?
— Не острите… У вас счастливое детство! Вы, как сыр в масле катаетесь, — и он показывал на чайник, что означало — Муравский желает выпить кружку чая.
В свой последний визит Муравский удобно уселся на чурбане, заменявшем табурет, поставил костыль между ног и завел шарманку:
— Когда беляки наступали, я целую ночь просидел в погребе…
— Испугались? — спросил вежливо Рогдай.
— Стреляли, — ответил Муравский.
— Из наганов? — спросил еще вежливей Рогдай.
— Щенок! — ответил инвалид Муравский. — За что вам паек дают по литеру «А»? По блату?
— За то, что мы не сидели целую ночь на бочках с солеными огурцами, — необыкновенно вежливо ответил Рогдай, что на него было мало похоже.
— Остряк, — отозвался гипертоник и положил подбородок на руки, которые, в свою очередь, лежали на костыле. О, это был изумительный костыль! Красный, сучковатый, с костяной ручкой, напоминающей дверную.
— Люди за вас кровь проливают, — опять завелся инвалид и вдруг замолчал на полуслове. На его лице появилась улыбка. Я видел в учебнике истории фотографию статуи французского ученого Вольтера — он тоже сидел, кажется, в кресле, но только не на чурбане, это точно, и в руках у него был тоже костыль, и старик улыбался… Не знаю, по какому поводу, может, он что-то такое увидел, отчего ему стало и больно и смешно, может, по другому поводу. Когда Муравский улыбнулся, мы насторожились, не понимая еще, что происходит с гипертоником, а когда поняли, было поздно…
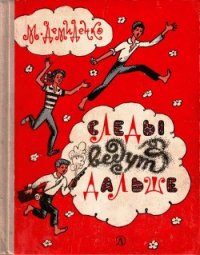
![Важный разговор [Повести, рассказы] - Печерский Николай Павлович (книги без регистрации бесплатно полностью .TXT) 📗](/uploads/posts/books/39622/39622.jpg)