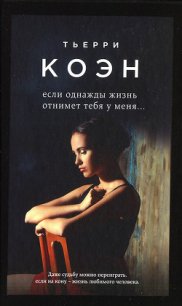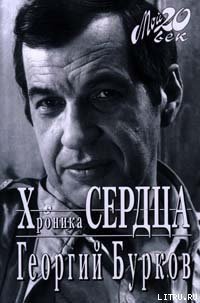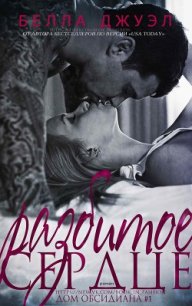Книга о разведчиках - Егоров Георгий Михайлович (полные книги TXT) 📗
По траншее меня несли на носилках. Я слышал, кто-то у телефона надрывался:
— Разведчиков побило на нейтралке… Алло, алло… Разведчиков, говорю… Алло… Разведчиков…
В конце траншеи в ложбинке стояла лошадь, запряженная в бричку. На ней меня и повезли в госпиталь. Как Козуб с «нейтралки» попал раньше меня в госпиталь и поднял там «тарарам» — представить не могу.
— Тебя-то когда ранило, капитан?
— Когда и тебя. Той же очередью.
— Сильно?
— Три пули в правую ногу.
— Ого! Тут от одной не могу очухаться.
— Но у меня кость не задета.
— Все равно. Кто тебя вытащил? Сапунов?
— Нет, сам. Сначала полз, а потом вижу, что и к обеду не доберусь, поднялся и пошел.
— Как поднялся?
— Поднялся, оперся на автомат и пошел. Вгорячах можно и не такое. Я видел однажды, как у одного комдива осколком руку оторвало, когда он ею указывал в сторону противника. Напрочь отлетела. Он посмотрел на нее и говорит: «Снимите часы, подарок командующего, а руку похороните…» А триста метров пройти при неповрежденной кости вгорячах… — И вдруг без перехода: — Ляшенко жалко. Глупая смерть. Бестолковая.
— А Сапунов где?
— Он около тебя был. Разве он не вышел с тобой?
— Нет. Я послал его к Ляшенко. Ты откуда взял, что Ляшенко убит?
— Козуб сказал.
— А может, он живой?
— Откликнулся бы. Ну, в общем, ребята поползли туда. Скоро вернутся, доложат.
И действительно — к полуночи появились… Ляшенко и Сапунов. Лейтенант чуть живой. Целая пулеметная очередь прошила ему левую ногу, искромсала ее, раздробила. Он оказался ближе всех нас к немцам, и они решили захватить его живым. Пристреляли вокруг него место. Только он начинал ползти, как пули впивались в землю около него. А когда к нему подполз Сапунов, то и он попал в это кольцо. Так и пришлось им лежать под дулами двух пулеметов целый день. А когда стемнело, к разведчикам поползли и от немцев и от нас. Немцы хотели захватить русских, явно заблудившихся и забредших к самым немецким траншеям. Они видели — их отделяло каких-то три десятка метров, — что русские живы. Наши же разведчики поползли затем, чтобы вынести тела и захоронить… Короче говоря, забросав гранатами подползавших фрицев, ребята под покровом темноты вытащили израненного лейтенанта.
Вместе мы пробыли только одну ночь. Всю ночь медики возились с Ляшенко. К утру, как и меня сутки назад, его привели в относительно нормальное состояние, он узнал нас с капитаном, слабым голосом произнес:
— Ну, кажется, выкарабкался… Думал — все… Значит, еще поживем.
Утром мы распрощались. Навсегда. Меня с другими ранеными погрузили на автомашину и отвезли в Копычинцы, а оттуда на санлетучке через Гусятин, Волочаевск в город Проскуров. Эта перевозка длилась два дня. И два дня ни на минуту не затихала у меня боль в пальцах. Никак не мог понять: ранение около локтя, а боль в пальцах! Что я только не делал, как только не приспосабливал, не пристраивал почерневшую правую кисть — и вверх ее поднимал. и качал, и мял, и давил, и массажировал легкими движениями, — боль ни на секунду не прекращалась. Она изнуряла, она выматывала последние, силы. Все эти двое суток — и днем и ночью — от меня не отходили сестры, спрашивали осторожно про самочувствие. Какое там к черту самочувствие… Несколько раз подходил врач, внимательно осматривал повязку, щупал пальцы, успокаивал:
— Ничего страшного. Терпи, молодой человек.
В Проскурове меня выгрузили и отвезли в госпиталь. В эту же ночь, 24 апреля, положили на операционный стол. Голому на высоком холодном столе было неуютно. Слева от меня через стол такой же бедолага лежит, как и я, только он уже под наркозом. Эскулап ножовкой пилит ему ногу. Ножовка скрипит. Подошла сестра, красивая, черноглазая (почему обратил внимание на красоту — потому что лежал перед ней голым), взяла мою голову в свои ладони, повернула.
— Нечего туда смотреть.
— Думаете, нервы не выдержат? Не такое видел.
— Ладно, ладно. Храбрый какой…
Появился хирург с растопыренными руками… А сзади меня ножовка доскрипывает уже. И вдруг — бултых — в таз упала отпиленная нога. Так захотелось посмотреть, как он, бедный, без ноги. Но сестра твердо держит, не дает повернуть головы.
— Начнем, — сказал хирург.
Сестра поднесла к моему лицу маску, выпустив при этом из рук мою голову, я оглянулся — тот, соседний хирург торопливо, через край зашивал кожу на культе. Сестра наклонилась, тихо сказала:
— Сейчас наркоз дам. Дышите глубже. Считайте до ста. — И прижала маску к лицу.
Дыхнул раз глубоко, второй, третий… Стало душно. Очень душно. Хоть бы глоток свежего воздуха. Но сестра крепко держит маску. И я решил схитрить — взял и затаил дыхание. Сестра забеспокоилась. Ага, думаю, ты сама не шибко храбрая… Она приподняла маску, заглянула под нее. Я успел вдохнуть свежего воздуха. Полные легкие набрал. Сестра тут же прихлопнула маску у меня на лице. А мне стало уже легче. Уже не так душил этот проклятый эфир. В голове зазвенело. Все звуки операционной начали удаляться и с легким звоном расплываться. Руки на маске ослабли. Сестра сказала кому-то:
— Парень-то с характером…
Мне очень хотелось сказать, что я слышу, о чем они говорят. Но язык не шевелился, и все перекашивалось в голове и искажалось, как в кривом зеркале.
Проснулся я, когда меня везли в палату. Та черноглазая сестра заботливо укрывала меня простыней, шла рядом. Мне было весело, как пьяному. Я пел песни и пытался размахивать левой здоровой рукой. В палате меня ждала какая-то высокая установка с баллончиками-скляночками и длинными резиновыми шлангами. Начали вливать кровь. И сразу же меня зазнобило, залихорадило. Понатащили отовсюду одеял, халатов и все это навалили на меня, а я все равно дрожал, зуб на зуб не попадал. И все-таки сквозь зубную стуковень я спросил, чью кровь мне вливают. Сестра заглянула на банку и прочитала имя и фамилию девушки и город, в котором она живет. Я долго помнил все это, но записать сразу в дневник не мог (правая рука у меня «не писала» долго), а потом с годами забыл. И сейчас очень жалею об этом.
Через два дня во время перевязки у меня вдруг сквозь бинт фонтаном ударила кровь, причем не оттуда, где пуля прошла — ниже локтя, а на самом сгибе в локте. Мне наложили жгут и снова покатили в операционную. Снова та же черноглазая накрыла мне лицо маской. Снова я задыхался и снова так же схитрил. Только после операции я уж больше не пел.
Три дня лежал пластом, не шевелясь, в полузабытьи. На четвертый день, в канун Первого мая, вечером налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить железнодорожную станцию и город. В госпитале погас свет, поднялся гвалт. Ходячие устремились в подвал. А мы лежали с вытаращенными в темноте глазами. Помню, прощаясь, капитан Калыгин сказал: «Ты, по всему видать, отвоевался. Домой поедешь». Лежал и думал: доедешь тут, если так будут сопровождать.
На следующий день бомбардировщики прилетели снова.
Третьего мая после обеда начали грузить санитарный эшелон для эвакуации тяжелораненых в глубокий тыл. Возили нас до самого темна. А потом долго не отправляли. Все волновались — с минуты на минуту должны появиться бомбардировщики. Наконец наш санитарный поезд тронулся. Едва он вышел за станционные стрелки, сзади раскатились взрывы — гитлеровцы, как всегда, пунктуальны, бомбометание начали минута в минуту. Наш эшелон стоял на перегоне с погашенными огнями — впереди горело и сзади тоже…
Утром, когда вагоны убаюкивающе покачивало и что-то свое выстукивали на стыках колеса, прошел слух, что минувшей ночью, когда мы стояли на перегоне, одна из бомб угодила в наш госпиталь, и прямо в операционную… Из головы никак не выходила черноглазая сестра — неужели в это время она была в операционной?
Последние взрывы Великой Отечественной войны для меня раздались седьмого мая сорок четвертого года, когда наш санитарный поезд вечером отправлялся со станции Дарница, а немецкие самолеты начинали ее бомбить — тоже в последний раз.