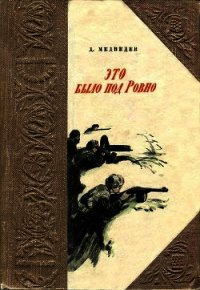Сильные духом (Это было под Ровно) - Медведев Дмитрий Николаевич (лучшие книги TXT) 📗
Тревожен и таинствен этот лес на занятой врагом земле. Кто знает, какой жизнью он живет, кого прячет, кого пошлет нам навстречу — друга ли, врага ли?..
Мы идем молча. Слух напряжен. Стоит грозная тишина.
К девяти утра мы уже близко от станции Толстый Лес. Даю команду на отдых, выставляю секреты, приказываю Лиде Шерстневой развернуть рацию.
Не успел я сделать последние распоряжения, как бойцы из выставленного вперед секрета привели троих людей. Увидев меня, «пленники» радостно улыбаются. Это разведчики Кочеткова.
Минут сорок спустя уже сам Виктор Васильевич рассказывал нам о своих злоключениях. Мало того, что их выбросили на двести километров севернее намеченного пункта, — их угораздило не приземлиться, а «приболотиться». Перебираясь с кочки на кочку, промокшие до костей, они всю ночь до рассвета блуждали по болоту, пока не напали наконец на твердую почву. Промокли спички, и нечем было разжечь костер, нельзя обсушиться. Но спички — это еще полбеды: намокла рация. Радисту стоило невероятных трудов связаться с Москвой.
Я не знал встречи теплее и радостнее, чем эта, в лесу, за линией фронта. Здесь мы как-то особенно глубоко почувствовали, какими крепкими узами связаны, насколько близки и дороги друг другу. Люди наперебой делились новостями, точно не виделись невесть сколько времени. Самое отрадное, что и Стехов со своими товарищами был здесь, в лагере Кочеткова. Здесь же находился и доктор Цессарский. Предполагалось вначале, что он полетит со мной, но план этот был нарушен несчастным случаем, происшедшим в группе Кочеткова. Партизан Калашников, человек пожилой, огромного роста, тяжелый, приземляясь, повис на парашюте между деревьями метрах в шести от земли. Он не стал ждать, пока его снимут. Обрезав финкой стропы парашюта, Калашников рухнул на землю, но подняться уже не мог: кости обеих ног оказались переломленными.
Получив тогда от Кочеткова радиограмму о случившемся, я показал ее Цессарскому:
— Сегодня можете вылететь?
— В любую минуту, — отвечал Цессарский.
— Через два часа.
— Есть.
Незадолго перед тем Альберт Вениаминович Цессарский женился. Он побежал проститься с женой, но не застал ее дома. Так и улетел не простившись.
Калашникова в лагере не было. Он лежал в полукилометре от станции Толстый Лес, в будке у путевого обходчика, куда его пристроил Кочетков. Доктор и партизаны навещали его там каждый день.
О Саше Творогове и о Пашуне по-прежнему ничего не известно. Как в воду канули.
Нельзя было терять ни минуты. Мы отправили людей в разведку — узнать, можем ли принимать здесь остальные группы. Под вечер я пошел проверить, как охраняется лагерь, как расставлены посты. Обошел вокруг, пересек большую поляну, углубился в лес.
Бор Толстый Лес — недаром так названа железнодорожная станция — действительно могучий. Вековые дубы, березы, ели, сосны, плотные заросли подлеска образовали сплошной, непроходимый массив. Нигде ни одной тропинки.
Я решил вернуться обратно. Но минут через десять понял, что иду не туда, куда следует. Повернул левее, прошел еще с километр — лагеря нет. Наступили сумерки, и я понял, что окончательно сбился с дороги.
А ведь я неплохо ориентируюсь в лесу. Родился я в Белоруссии, в детстве часто ходил по грибы, по ягоды, с юности пристрастился к охоте. Я знал не один способ, как определить в лесу стороны света, знал множество тех лесных безошибочных примет, что ведомы одним охотникам. Полгода, проведенные в Брянских лесах, тоже чему-то научили. И, однако же, сплоховал. Решил взобраться на дерево. Выбрал огромный дуб, ухватился за сук, подтянулся. После падения с парашютом это причиняло нестерпимую боль. Стал карабкаться вверх. Поднялся метров на десять над землей. Кругом во все стороны — лес и лес. И вот в одном месте замечаю дымок. Засек этот ориентир на компас, спустился с дерева и пошел.
К лагерю добрался уже в темноте. У костра шла мирная беседа, слышался сдержанный смех. Говорили об испанце Ривасе. Ривас был механик по самолетам, мы взяли его в отряд, чтобы на всякий случай иметь и такого специалиста. Я прислушался. Рассказывал Толя Капчинский — голубоглазый, атлетически сложенный юноша, рекордсмен Союза по конькам, человек веселый, общительный, ставший нашим общим любимцем еще в лагере под Москвой.
— Ну, значит, — рассказывал Толя, — собрались мы на костер. Сделали перекличку — нет Риваса. Пошли искать. Темно, ничего не видно, кричим: «Ривас!» — не отзывается. Всю ночь проискали. Нету. Пропал. Наутро опять в поиски, и опять нет. Уже перед вечером напал я на болотце. Посреди болотца одна осина, да и та тонкая. Вижу, за ней кто-то прячется. Голову спрятал, а плащ-палатка торчит. Присмотрелся — обмундирование наше. Ну, ясно — Ривас! Кричу: «Ривас, выходи!» А он в ответ одно: «Камуфлаж! Камуфлаж!..»
Узнал меня, обрадовался, обнимает. А потом вдруг вытаскивает из-за пазухи голубя живого. И зачем ему этот голубь — так и не знаю до сих пор.
У костра засмеялись. Все смотрели на Риваса. А тот, маленький, невзрачный, тоже смеется, поблескивая глазами. Он не умел говорить по-русски и не мог объяснить, зачем, в самом деле, понадобился ему голубь.
Лишь через полгода, когда Ривас выучился русскому языку, он рассказал про свои тогдашние страхи, про то, как боялся остаться один. Голубя он поймал, решив, что съест его, если не скоро отыщет своих.
Настроение было приподнятое. Люди успели освоиться с новой обстановкой, она казалась не такой уж страшной, какой представлялась издали. Мне показали интересную светящуюся «клумбу», которую кто-то сделал из гнилушек. Радистка Лида успела уже прицепить гнилушку к волосам, и та играла голубоватым светом, как драгоценный камень.
Я не хотел нарушать этого радостного настроения. Я знал, что оно сменится серьезными делами, трудными заботами, что будут и бои, и кровь, и скорбные минуты прощания с павшими товарищами; что в первом же селе, где мы появимся, нашим глазам предстанет картина человеческих бедствий.
И в тот вечер, как и позже, я старался не омрачать веселья товарищей, когда оно так естественно возникало — от молодости, от силы и духовного здоровья.
Через два дня мы приняли еще одно звено парашютистов.
Самолет высоко пронесся над нашими кострами. Костры горели так ярко, что озарили своим светом и пролетавший самолет, и тучи на небе.
Пролетев над сигналами, самолет ушел в сторону, развернулся и снова показался уже на высоте трехсот метров. От него стали отделяться купола парашютов. Их скашивало в сторону ветром.
Неожиданно, на высоте не более восьмидесяти метров, один за другим раскрылись два парашюта. Первый парашютист упал около костра, поодаль приземлился другой.
Площадка для приема парашютистов была непригодной. Она находилась близко от станции. Рядом и рельсы, и булыжная мостовая, и лесной склад. Приземление на той площадке грозило опасностью изуродоваться. Пришлось радировать в Москву, чтобы людей покамест не отправляли.
…Разведка приносила тревожные вести. По окрестным деревням разнесся слух, что каждую ночь прилетают чуть ли не по двадцать — тридцать самолетов и сбрасывают парашютистов, которых скопилась уже якобы целая дивизия. Об этом разведчикам, не скрывая своей радости, рассказывали местные жители. Слухи эти, конечно, дошли и до фашистов.
— Что же, — сказал Сергей Трофимович Стехов, — если придется драться, покажем, что нас тут дивизия, не будем их разочаровывать.
Но на рассвете двадцать третьего июня мы все же покинули лагерь. Оставили только «маяк» из пяти бойцов, которым поручили наблюдать за станцией. На «маяке» остался и Цессарский. Он должен был лечить Калашникова, который все еще лежал у путевого обходчика. Взять с собой Калашникова мы не могли — ноги у него были в гипсе.
…Мы заметили в пути одинокий бревенчатый домик, затерявшийся в лесной чаще. Послали на разведку трех партизан в штатской одежде.
— Попросите поесть и постарайтесь разузнать о противнике, — поручил им Лукин.
На стук вышел крепкий сутулый старик с седыми мохнатыми бровями.