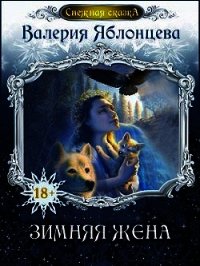Три ялтинских зимы (Повесть) - Славич Станислав Кононович (лучшие бесплатные книги txt) 📗
Однако что же там дальше?.. «Чертовски холодно было в Крыму в критические дни декабря сорок первого года. Двадцать градусов ниже нуля показывал в среднем термометр. Саперы были рады после длительных маршей найти, наконец, в Симферополе теплое укрытие. Их командир в дальнейшем руководил атакой на Феодосию, а позднее некоторое время был комендантом Ялты, где опасались десанта большевиков. Но все обошлось…»
В самом деле любопытно.
«…И вот мы снова в Симферополе с надеждой на короткий отдых. Однако радость длилась недолго. Вскоре, как лесной пожар, распространилась новость о вражеском десанте в Евпатории. Точно ничего не было известно. Как силен враг? Как далеко он продвинулся? Каким оружием располагает?.. В этом опаснейшем положении, в страшной спешке подполковник фон X. получил приказ немедленно выступить и своим батальоном, который в предыдущих боях уже сильно поредел, снова сбросить противника в море…»
Сколько разговоров было об этом Евпаторийском десанте! Удастся ли когда-нибудь узнать, что же в действительности произошло?…
А книгу стоит сохранить. После войны читать и комментировать ее будет интересно. Да и сейчас это поучительно. Ведь в ней как бы между делом проводится и такая мысль: Крым-де — германская земля, поскольку еще в середине III века здесь- «твердой ногой» стали готы. Вот так-то. А дальше, конечно, стишки об этих готах:
Многозначительные стишки.
Успел ли сам Николай Степанович познакомиться с этим трудом? Поговорить бы…
После встречи с Казанцевым старик не раз вспоминал Анищенкова. Кто знает, как сложилась бы судьба Николая Степановича, узнай он Казанцева и сумей найти с ним общий язык. Во всяком случае, многое могло быть по-другому.
Неужели все, что останется в память о нем, будет эта книга? А человек был интересный. Была ему присуща та активная любознательность, которую Трофимов ценил в людях. Эту черту унаследовал и Алеша. О чем только не случалось говорить с мальчиком! Одно время пытался привить ему вкус к античной мифологии — давняя слабость. Жизнь в Крыму, кстати, поощряла к этому. На этот берег немало выплеснулось и осело на нем немало еще с гомеровских времен… Говорили а пушкинском: «Я верю: здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношенья…» Читали с нажимом на это «здесь», как, наверное, читал и сам Пушкин.
А сколько других громких имен, неожиданных предположений возникало в разговорах! Спорили. О киммерийцах, скифах, о борьбе с пиратами на Черном море, об итальянской колонизации. Конечно же, о караимах («Кто они? Откуда?»), потому что, говоря о караимах, невозможно не спорить.
Вспоминали и о готах: отыскали перерод трактата Прокопия Кесарийского, где упоминаются осевшие в Крыму готы, которые не захотели идти за королем Теодорихом завоевывать Италию, а остались здесь, листали «Путешествие» Гильома де Рубрука, обронившего о готах несколько слов…
Было в этом, как понимал сейчас Трофимов (да и раньше на сей счет не заблуждался), нечто от дилетантской игры, в которую невольно вовлекается почти каждый, пожив в Крыму. Приезжие люди особенно подвержены ей. Но вдруг игра обернулась жестокой реальностью, и вопрос о тех же караимах стал не просто любопытным или забавным. Запахло кровью. Кто они, эти караимы? Откуда? Теперь спрашивали специалисты по расовым вопросам, и любопытство их было отнюдь не праздным. За ним стояло: убивать ли караимов вместе с евреями и цыганами или пусть пока живут?
А готы! Знал бы Прокопий, этот прижившийся в Константинополе выходец из Кесарии, во что выльется упоминание об одном из племен маленького, но многоязычного края! Или дженовезе — генуэзцы, назвавшие кусок побережья «капитанством Готия»!.. Не в них, впрочем, дело. В то же примерно время это побережье называли и Газарией по имени хазаров. Каких только народов не было здесь, кто только не заявлял притязания!
Дело и не в самих готах, растаявших, как щепотка соли в кипящем котле. Они просто зацепка и повод, а не будь ее, обошлись бы и без этого. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…» Но вот тут-то и получилась промашка. Волк в басне сказал и «в темный лес ягненка поволок». В жизни, к счастью, получилось иначе.
Угревшись на солнышке, Трофимов задремал. Раньше не замечал за собой такой слабости. А теперь, случалось, задремывал и с книгой в руках. Лиза, когда однажды сказал об этом, как всегда, успокоила: со всеми, мол, случается. А Михаил Васильевич подумал, что становится беспомощным, и это нехорошо. Раньше был для Лизы опорой — так и должно быть, — а теперь сам ждет помощи и сочувствия.
Как тяжка и унизительна старость!
Дремотные мысли были странно бесследными. Как облака. Даже то, что в реальной жизни пугало или тревожило, в дремоте вызывало лишь забытое с детства предчувствие сладких, облегчающих душу слез. Тоже примета старости? Обремененные недугами и тяжким грузом лет люди невольно замыкаются в себе. Неужто и с ним это происходит? Как безжалостно верны простые слова — «груз лет»…
«Вот видите — совсем незачем было спешить», — послышалось откуда-то издалека, и он готов был согласиться: да, незачем и некуда.
Женский голос всегда напоминал ему флейту. Даже когда звучал грубо и сипло. Это он тоже объяснил себе: значит, флейту испортили, она побывала в дурных руках. На этот раз в флейте была трещинка…
— Его самого нет, а вы торопились, боялись… Почему вы всегда так спешите домой? Михаил Васильевич не доверяет или ревнует? Он вдруг почувствовал, что страшится пробуждения, боится ответа. Ведь и в самом деле не любил, когда Лизы долго нет дома, случалось и ревновал, хотя не говорил об этом… Лиза рассмеялась. Какой чистый, ничем не затемненный смех! Но что она скажет?
— Мне спокойнее с ним рядом. А для ревности — все мы люди — не хочу давать даже повода. Ревнивый человек делается смешным…
— Всегда ли?
— Я не говорю об Отелло. А просто ревнивец все- таки вызывает усмешку. А я не хочу, чтобы мой муж был смешным.
— Простите, Елизавета Максимовна, но я вас не понимаю… Да, флейта была попорчена. Но до чего же невыносим этот разговор о тебе самом, это еще одно напоминание о разнице в летах, о твоей старости!
— А что понимать? Вы же ничего не знаете о нем. Чтобы понять мужчину, надо видеть его в минуту опасности. Я Михаила Васильевича видела. Он для меня муж, и дитя, и отец. Я не представляю себе жизни без него.
Упала книга с колен. Упала почти неслышно, но Лиза услыхала. Выглянула в дверь.
— Миша, ты здесь? — сказала с видимым облегчением.
— Да вот задремал, — ответил он виновато.
ГЛАВА 23
Начальник зондеркоманды г- крепыш с баронским титулом и эсэсовским чином — называл Середу «господин Динстаг» — вторник. Снизошел до объяснения: Середа (то бишь среда) переводится как «der Mittwoch». Но что может быть скучнее таких прямых переводов! Неинтересно и плоско. К тому же в слове «Динстаг» есть и еще один оттенок. «Der Dienst» значит «служба». И вообще, почему бы господину Середе не стать вторником?..
Веселый человек барон, будь он трижды проклят. А Середу вот уже много недель, а может, и месяцев, ни днем, ни ночью не отпускала смертельная тоска. Чего только не натерпелся от нее, какие только личины она не принимала!
То казалось, что она проникла в его небольшое, но ладное, крепкое тело, как крохотный червячок, как некая личинка величиной с маковое зернышко (такую и проглотишь, не заметив), а потом разрослась и теперь ненасытно сосет. Тупая, безмозглая тварь не понимает, что конец его, Середы, станет и ее концом.
Иногда представлялось, что эта тоска зародилась в нем самом, как те загадочные, беспричинно, на первый взгляд, возникающие опухоли, которые, зрея, точат организм, пока не доведут его до погибели.