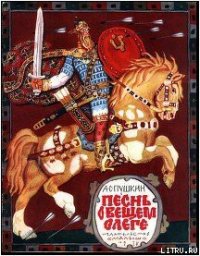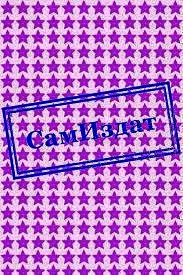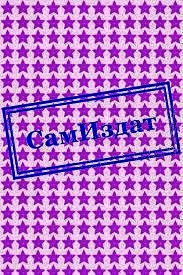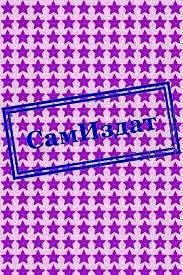Песнь о Перемышле (Повести) - Васильев Александр Александрович (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Наверно, нет более увлекательного занятия, чем разгадка тайны. Кто летит за ней в немыслимые дали, к звездам, кто пробирается сквозь льды на нартах с собачьей упряжкой. Ну а кто роется в архивах, вглядывается с лупой в каждую буквочку, в каждую уже давно стертую временем цифру на документе — и все лишь для того, чтобы раздобыть в конце концов ничтожную толику истины.
«Стрельба!» А что за стрельба, кто ее вел? Может быть, кто-то из наших остался в городе вопреки приказу? Ведь были же, наверно, такие, кто не мог уйти по каким-то обстоятельствам: ну раненые, например? Или отдельные группы бойцов.
Пока мы не знаем их имен. И вряд ли уже когда-нибудь узнаем. Свидетелей остается все меньше…
Однако ниточка протянулась. Нашлись люди в том же польском Пшемысле, дополнившие рассказ своих земляков новыми подробностями. Стрельба велась якобы из недостроенных дотов. Здесь, в городе, их было несколько, но тридцатого — да, да, именно в понедельник, это все хорошо помнят! — стрелял только один дот. Вот этот, под Замковой горой. Нанес он германцам урон немалый: смел на набережной чуть ли не целый взвод, вместе с мотоциклетками, разнес в щепки два или три обоза на подходе к Засанью. И взять его немцы ничем не могли. Тогда ихнее командование отправило на наш берег особую штурмовую группу. Как удалось ей подобраться к доту, — никто не знает. Только грохнул, выбив все окна вокруг, страшный взрыв. И дот рухнул.
«А была еще автоматная очередь?» Да, была. Но тут мнения разошлись. Одни утверждали, что всех, кого гитлеровцы нашли в развалинах еще живыми, они тут же на месте расстреляли. Другие приводят в опровержение рассказ какого-то старика, которого уже нет в живых. Старик этот жил на склоне Замковой горы и видел из окна своего домика, как немцы вытащили из развалин пять или шесть трупов.
Здесь иссякал ручеек факта, и начиналась Легенда. Мучимый сомнениями, я продолжал искать, если уж не имена героев, то хотя бы кого-то из участников обороны, кто знал бы номер части или подразделения, к которой они принадлежали. Может быть, таким образом все же удастся добраться до истины?
Кто-то мне посоветовал заглянуть в картотеку ветеранов войны. С неделю я копался в карточках, вчитываясь в графу: «Участие в боевых действиях». Уже темнело в глазах, отчаянно ныла спина, хотелось все бросить… И вдруг читаю: «Воевал в Перемышле с 22 июня по 3 июля». Причем не одна карточка, а две подряд. Двое. Двое из бывшего Перемышльского укрепрайона, один лейтенант, другой рядовой.
Выписываю их адреса. А потом спохватываюсь. Почему в карточке стоит «по 3 июля», когда мы установили, что последний выстрел в этом районе прозвучал тридцатого июня? Значит, эти двое воевали там еще три дня?
Это оказалось правдой.
…Они всегда были разными. К тому же их разделяло служебное положение: один — Иван — был лейтенантом, командиром дота, другой, Василий — рядовым. Один был непререкаемым авторитетом по всем вопросам — от военного дела до кино или игры в шахматы, он окончил десятилетку и военное училище, другой в свое время едва дотянул восемь классов и на том успокоился. Один отвечал за всех этих восемнадцать бойцов первого годы службы, только еще осваивавших свои боевые посты. И за них, и за всю эту секретную и могучую чудо-технику, за все хозяйство дота, который обошелся государству в немалую копеечку. А второй… Второй, если за что и отвечал, то был-то это всего «дегтярь», правда новенький, с иголочки, как и все в доте. Еще точнее — за половину «дегтяря», поскольку пулеметчиков было по штату положено двое. Но второй, обещанный, еще не прибыл, и Василий управлялся пока за двоих — чистил, собирал и разбирал пулемет, словом, как положено, держал в боевой готовности. Замечаний по этой части ему еще никто не делал.
Но в этот день Василию влетело. Перед вечером лейтенант решил проверить заправку постелей, и он нашел у троих в том числе у Василия плохо заправленную койку, за что и дал по наряду вне очереди. И другим тоже досталось — за грязь в тумбочке, за нечищенные сапоги. Потом объявил, что в связи с антисанитарным состоянием помещения все временно лишаются права на увольнение за пределы зоны. На вопрос, как долго продлится такая кара, лейтенант ответил уклончиво. Мол, все будет зависеть от вас.
А сам ушел. Долго возился в своем «салоне» (бойцы смеялись тайком: курятником вернее бы назвать эту комнатушку-выгородочку), все франтился перед зеркалом. Вышел весь надушенный, в парадной форме, даже со шпорами, но еще мрачный. Подошел к телефону, постоял над ним, побарабанил пальцами по крышке, потом вдруг махнул рукой. «Будут спрашивать, — наказал помкомвзводу, — скажи, пошел в штаб».
Василий не обиделся на него, как другие. Зачем ему увольнительная, когда ни здесь, в местечке, ни в самом Перемышле у него нет знакомых, и все его мысли по-прежнему далеко отсюда, в родном Подмосковье. Там, среди россыпи домиков и домишек, дымит его суконная фабрика. Дышат машины, мягко постукивая ходят валки. Рядом с фабрикой — клуб, бывший хозяйский дом, с лепными потолками, с паркетом из мореного дуба. В этом клубе ему знакома каждая комната — в одной он занимался в струнном кружке, в другой — это когда стал постарше — играл в шашки и шахматы, уже перед армией стал ходить в третью — записался в литкружок. К стихам чудака потянуло. Хоть и грамотой слабоват, а потянуло. Дружки-корешки — свои же, фабричные, чужим он не позволил бы — потешались: ну впрямь чудит парень, ни танцев ему, ни кафе-ресторана не надо, одни стихи в голове. Даже в ревность ударились: «Кто тебе дороже — мы или этот поэт, москвич патлатый, ваш руководитель?» Что им на это ответишь? Да ничего. Только вздохнешь: эх, мол, братцы-кролики, дорогие мои, ни черта вы не понимаете.
И здесь тоже не понимают. Лейтенант раз заметил, что он, Василий, вечером, примостившись у тумбочки, что-то пишет, подошел, не спрося взял листок, прочитал и бросил обратно. Сказал с ухмылкой: «Пушкин, значит. И ручку грызешь совсем как он. Смотри, спрошу за порчу казенного имущества». Ладно хоть другим не рассказал.
Обо всем этом Василий думал, выполняя внеочередной наряд. Перед уходом лейтенант приказал ему пройтись тряпкой по всем помещениям и навести образцовую чистоту. И вот Василий, начав с жилого отсека, ходил, протирал для надежности и без того чистые столы и табуретки, посудный шкаф, у титана задержался, увидев на его никелированном боку свое отражение. Было смешно смотреть: лицо длинное, еще длиннее, чем есть, словно после болезни, и глаза большие, с чистой, как у херувима, голубизной. Его глаза, никуда не денешься. По ним его всегда узнавали — толстел ли, худел ли, менял стрижку, даже если был весь в машинном масле. А с херувимом его еще в детстве сравнивала бабка. Из-за глаз, да из-за тихости…
Потом заглянул в боевые казематы. Но там уже шуровали артиллеристы: протирали стволы, драили приборы. Пулеметчик невольно позавидовал им. Вот где сила! Темно-зеленые, жирно поблескивающие пушки, были нового образца — с лебедками для подачи снарядов и гильзосборниками, с запасными панорамами, с вращающимися, как в зубном кабинете, креслами для наводчика. Стволы были вмонтированы в бронированные шары, которые могли вращаться при наводке на цель и одновременно защищали орудийную прислугу от осколков и пуль. Да, здесь, конечно, укрытие надежнее, чем в бронеколпаке, — подумал Василий, стоя с веником в руке, — но уж больно глухо, ни щелочки. Если и увидишь кусочек природы, то лишь через стекло, в стереотрубу. У него же, в бронеколпаке, в прорезь далеко видно — вправо, влево, даже вверх. Хочешь: сядь и любуйся себе. Днем — окрестными холмами, рекой Сан с кустами и песчаными отмелями, журавлями в голубом небе, ночью — луной и звездами.
Он усердно подметал пол, а его мысли снова унеслись далеко отсюда. Почему люди не договорятся, чтобы жить в мире, без войн? Ведь сколько тратится денег на вооружение. Ведь какой рай можно создать на земле, и этой земли всем хватит, если с умом все делать…
Он стукнулся лбом о железобетонную опору и очнулся. Ругнул себя, потирая шишку: нашел время мечтать. И было бы о чем? Нет уж, пока эти фашисты копошатся под боком, будут и диверсии, и провокации, и разговоры о близкой войне. Только пока об этом — о немцах — прямо у нас не говорят, чтобы, наверно, их не злить. И правильно делают.