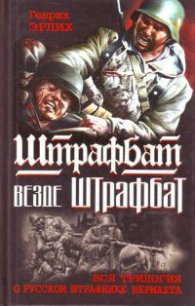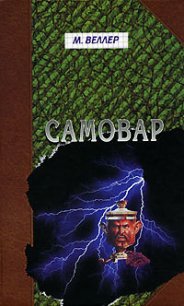Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Шишкин Евгений Васильевич (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
— Зря волок этого кабана. Плечо отнимается, — бубнил Вася Ломов. — Говорил тебе, Федь, мне надобно его шмякать. Я б его ваккуратно. Ты ему шейный хрящ своротил.
— Говорил, говорил, — огрызался Федор. — Не надорвался! Сам накудахтал прежде времени: повезло, повезло… Разве я хотел, чтоб он сдох?
Захар по-прежнему отмалчивался, и Федора это пуще всего угнетало. Хуже нет, когда за тобой провинность, а итоговое объяснение оттягивается. Да и вина-то перед тем, с кем хлебаешь из одного котелка.
На короткий отдых солдаты приютились в хлипком, наскоро сложенном шалаше. Федор медлил забираться под его щелистую крышу, окликнул Захара:
— Слышишь, земеля, поди на минутку. Два слова сказать хочу.
Щеки Федора пылали от стыда, но потемки заболоченного осинника, куда забрался в нелепом перенаступлении батальон, лежали густые, даже глаз не разглядеть в метре от собеседника. И благо. Так с Захаром говорить было проще.
— Отпусти меня, земеля, еще раз к ним. Один схожу. Вдруг чего выйдет.
— Не выйдет, — угрюмо ответил Захар. Помолчал. — Чего тебя понесло? Говорено же было: сидеть в прикрытии. Хорошо, Васька тебя за задницу не зацепил. Нашумели бы, других погубили… Награды, что ль, захотелось?
— Домой мне, земеля, захотелось, — признался Федор. — Думаю, командир мне награду, а я поторгуюсь. Заместо награды пару суток отпуска выпрошу. Село родное тянет… Ежели бы я сразу на войну уехал, может, и не так бы было. А то ведь я еще целый крюк дал… От судимости-то я теперь уж отмытый. Мне бы своим показаться. А потом, как говорят, с чистой совестью опять сюда. — Федор замолчал. Он вспомнил, как сидел на замшелом бревне на угоре и глядел на крыши Раменского. Тогдашний взгляд был у него тяжел, темен. Сейчас бы он другими глазами смотрел. — Кажется, век дома-то не был… А башку-то я немцу с перепугу закрутил. Луна еще светила. Не рассчитал.
— Да это я уж понял. Но побывку все равно бы не выгадал. Мы на передовой. В наступлении, — примирительно сказал Захар. — К дому только две верных дороги. Через госпиталь — калекой. Или через Берлин. Ты об доме лучше не думай, впустую себя не изводи.
— Я б и не думал, если б не думалось.
12
Утром, когда заспанное, мутное солнце выбралось на блекло-осенний свод и по серым клочьям тумана, между голых осин, заскользил розоватый свет, передовой отряд батальона, ежась и потуже затянув ремни на шинелях, двинулся через болото, в огиб, в тыл занятой немцем Селезневки. Впереди, назначенный командиром старшим, шел Яков Ильич.
— Деревню возьмем в тиски, — говорил накануне майор Гришин, созвав в штабную землянку всех батальонных офицеров, и двумя заслонами ставил на карту руки. — Передовой отряд ударит в тыл. Остальные бьют в лоб. Через болото пройти можно.
Проведет местный житель. Сигнал к атаке — белая ракета. — На карте, над означенной кубиками Селезневке, сжался твердый командиров кулак.
На черной болотной воде, кое-где сплошь затянутой зеленой ряской, лежали палые истлевающие листья. Редкие деревья в топкой низине стояли чахлые, с темной корой. Они казались навсегда обмертвелыми, поставленными тут на устрашение посетителей этих трясинных мест. Серые стебли травы и чавкающий мох на кочках скидывали на солдатские сапоги ледяную росу. Двигались с шестами, гуськом. Над болотом разносился — гулко и настораживающе — стук дятла.
Проводником шла местная жительница — укутанная в полушалок, в толстой ватной стеганке, крепко подпоясанная веревкой, как старый мерзлячий ямщик. Однако, несмотря на тугую веревочную опояску, было без труда различимо, что женщина беременна — на большом, крайнем сроке. На молодом лице проступали бледно-красные пятна, в больших темных глазах была некая водянистость и притушенность — свидетельства предродовости. Она шла молчком, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, ни разу не улыбнулась, только кивала или односложно отвечала на вопросы Якова Ильича, ступавшего за ней след в след. Никто другой не смел с ней заговорить, пошутить, сказать приятное для женщины слово. Где-то в коллективном солдатском подсознании сидели тяжелые вопросы. От кого же она беременна, если жила в оккупации? От немца-насильника? От немца-любовника? От предателя-полицая? Чем сберегла себя за неугон в Германию? На чего надеется, когда вернется (если он есть) муж-солдат к чужому немецкому дитяте? И почему она совсем не обрадовалась, когда набрела на зарвавшийся в атаке, изрядно потрепанный, но не обескровленный батальон майора Гришина? Нет, никто не задавал ей, несущей под сердцем ребенка, а в сердце тайну, этих вопросов.
— Туда. Через деревню. Через поле. На Селезневку, — указала провожатая на видневшиеся черные остовы печей и повернула обратно.
Опустив голову, она пробиралась между солдат по натоптанным болотным кочкам. Солдаты расступались перед ней; виновато потупляли глаза, и ни один не отважился привлечь ее словом.
Впереди лежал маленький хуторок, в несколько домов в коротком порядке, — весь сожженный, без единой цельной постройки. Бездыханный и беззвучный — никто и ничто не шелохнется, ни собачий лай, ни петушиный голос не всколыхнет тишины — хуторок броско чернел печами, окруженными грудами развалин и хлама. Как надгробные стелы, торчали над хаосом закоптелые печные трубы. Среди головешек в толстом слое сажи лежали железная кровать, покореженный самовар, жестяной оклад выгоревшей иконы, крестьянский плуг.
— Э-э! Э! — вырвалось у Васи Ломова. Он показывал рукой в сторону колодца с поваленным журавлем: там белело человеческое обнаженное тело.
Это была убитая девушка. Нагая. Рядом с ней комом валялось разодранное платье. Руки девушки, в кровоподтеках и ссадинах, были разбросаны в стороны, и на открытой груди вокруг сосков виднелись синюшные следы истязаний. На животе от стреляных ран запеклась кровь. Даже мертвая, девушка будто бы стыдилась унижения и прятала лицо: лицо прикрывали пряди распущенных длинных волос. Казалось, что ей холодно, нагой, на этой выстуженной осенней земле. Солдаты застенчиво отводили глаза.
Вася Ломов сперва покрыл девушку изодранным платьем, потом, увидав поблизости солому, принес охапку и прикрыл ее ноги.
На краю селения, возле помойной ямы, встретили еще одну хуторскую хозяйку — мертвую старуху. Маленькая, как ребенок, она сгорбленно поджалась на боку, старой коричневой рукой прикрывая висок, все еще, видать, береглась от кого-то. Возле нее на склоне помойки лежала дохлая курица в грязном оперении, с белым, отмороженным гребнем.
— Вот вам… — услышал Федор отдельные фразы идущего впереди замполита. — Тут вся моя агитация… Убитый солдат — война. Девчонку изнасиловали — …не война! Старуху застрелили — тоже не война!… Хоть и пишут в церковных книгах: в начале было слово. Нетушки! Поступок был сперва! По поступку все поймешь… Никаких слов не надобно!
— Моя-то деревня, — донесся до Федора из-за спины чей-то солдатский голос, — еще впереди. Километров сорок отсюдова…
Солнце уже высоко поднялось, но, оставаясь под покровом светло-дымчатых облаков, исходило негреющим, матовым свечением. Отряд вышел к полю, за которым белоствольная березовая роща с остатками неопалого желтого листа гляделась туманно-светло и мирно. За ней уж рукой подать до Селезневки, которая миром не встретит. Когда отряд пошагал через протяженную открытую местность, появилось невольное чувство беззащитности и ощущение, будто кто-то, чей-то глаз, за всем этим наблюдает.
Все утро в походном строю Федор помалкивал, все еще казнился за оплошную разведку; старался не попадаться на глаза Якову Ильичу. Но выйдя на поле и увидев над головой крупную птицу, он заговорил с Захаром:
— Глянь, земеля, ястреб летает. Большой. Старый, видать. Хорошо быть птицей! Лети куда хошь. Вся война побоку…
Захар, жмурясь от света солнца, тоже поднял голову к большой птице.
13
Ястреб, редко ударяя крыльями по тугим волнам ветрогонного воздуха, парил над полем, высматривал себе мышь. В поле, куда он устремлял острый охотничий глаз, росла рожь-падалица вперемежку с расплодившейся сорной лебедой и осотом. Ястреба удивляло: почему люди запустили это плодородное черноземное угодье, которое прежде исправно кормило их? Он догадывался, что с людьми на земле происходит что-то чрезвычайное: на земле слишком много грохота и дыма, развалин и пепелищ, смердящих незахороненных трупов, глаза которым выклевывает воронье. Ястреб мог объяснить всю людскую сумятицу и погромщину только всеобщей болезнью людей, однако о существовании такой эпидемии он ничего не знал и последствия ее наблюдал впервые.