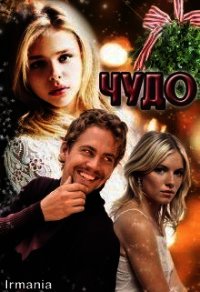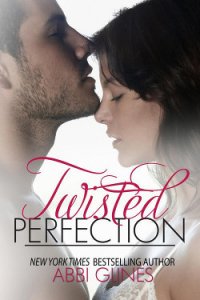Очень хотелось жить (Повесть) - Шатуновский Илья Миронович (первая книга txt) 📗
Сражение разгоралось с новой силой…
Необычайная тишина висела над селом. Бой за Подгорное, длившийся, не стихая, шестьдесят часов, закончился полным разгромом гитлеровцев. На бордовых углях догорающей избы мы с Ревичем и Шаповаловым варили картошку, выкопанную в огороде. Картошка поспевала мгновенно, достаточно было подцепить ведро длинной жердью и сунуть его в самый жар — температура там была огромной.
С нами сидел старик лет семидесяти, владелец этой избы, превратившейся в костер. Тело его покрывали какие-то полуистлевшие лохмотья, был он бос, нечесаная борода начиналась от самых глаз. Старик был единственным жителем, оставшимся в селе. Остановившимся, посторонним взглядом он смотрел, как догорают последние венцы его дома. Он так настрадался и натерпелся за эти дни, что уже ничего не воспринимал.
— В Подгорном было семьсот четырнадцать домов, — сказал старик, — теперь ни одного не осталось.
— Дедушка, а почему вы не ушли, как все? — спросил Яков.
— Черт его знает, почему не ушел. Ошибся я в своих военных расчетах. На вас понадеялся, а вы подвели. Всем говорил, что не пустите его в Подгорное. А потом вот пришлось в подвале ховаться. Когда выбили отсель немца, вылез я из подвала с мыслью, что у вас оплошность какая вышла, случайный момент. И опять я в подвале сидел. Вот я у вас и спрашиваю: может, мне снова в подвале сидеть придется, отдадите Подгорное?
— Не отдадим, — важно сказал Яков, дуя на горячую картофелину, которую перебрасывал с ладони на ладонь.
— А ты почем знаешь?
— Большие силы к Воронежу подошли, — воображая себя по крайней мере заместителем командующего, объяснял старику Яков. — Артиллерия, танки. Фактор внезапности у немца утерян. Ставка на окружение провалилась. У нас теперь сплошная линия фронта. Локтевая связь соседа с соседом…
— Ну, разве что локтевая, — недоверчиво сказал старик и ушел.
С голодухи мы съели картошки меньше, чем хотели, но больше, чем могли.
— Надо бы отнести ребятам, тоже ведь есть хотят, — сказал я. — А в чем?
— Знаю в чем, — быстро сообразил Виктор. Он открыл противогазную сумку, вытянул за гофрированную трубку противогаз и решительно швырнул его в сторону. — Вот вам и торба. Легка, удобна. Не в котелке же картошку нести, тут руки свободны.
Яков боязливо втянул голову, поежился.
— А не попадет? Все-таки военное имущество. За нами числится.
— «Числится, числится», — передразнил его Виктор, уже укладывая картошку в противогазную сумку. — Ты полагаешь, что здесь, в Подгорном, будут сличать вещевые аттестаты? Хозяев долго придется искать. — Он сделал вращательное движение рукой. — Оглянись, посмотри.
Вокруг нас, на изрытых траншеями улицах, во дворах, в огородах, лежали еще не убранные трупы немецких и наших солдат, валялись винтовки, автоматы, гранаты, диски, вещевые мешки, каски.
— Вот каску, пожалуй, надо взять, — деловито заметил Шаповалов, — Если б у Эдика Пестова была бы на голове каска, может быть, он и остался жив…
Виктор подобрал немецкую каску, напялил на голову поверх пилотки.
— Хорошо сидит, не правда ли? — обрадовался Виктор. — Плотнее нашей облегает башку. Пожалуй, ее я и возьму.
Яков засмеялся, хлопнул в ладоши.
— Было у Тараса Бульбы два сына! А ну-ка, поворотись, сынку! И в самом деле, совсем недурно. Похож, похож, ничего не скажешь. — Он наставил винтовку на Виктора: — Хенде хох, колбасник проклятый!
Ревич тоже пошел за каской. Я с ним.
— Брать от своего убитого очень уж неприятно, — рассуждал я. — Будто у товарища крадешь. А от немца проще: будем считать военным трофеем.
Напялили каски, поднялись, пора было возвращаться на батарею.
— Значит, будете оставлять картошку? — укоризненно спросил Виктор.
Сомнения очень недолго терзали наши дисциплинированные души. Мы тоже выбросили противогазы и набили сумки еще теплой картошкой.
За селом опять начиналось пшеничное поле. Хлеба стояли высокие, по грудь. Из-под ног выпорхнул жаворонок, мы чуть не наступили на гнездо.
— Живет же птица среди огня и дыма, — удивился Виктор.
— Она так же, как и тот старик, не думала, что немец дойдет до Подгорного, — сказал я.
Яков опять стал проявлять беспокойство.
— Я все думаю, не попадет ли за противогазы. Может, вернуться, подобрать, пока недалеко ушли?
— Пустое, — успокоил его Виктор. — На данном этапе противогаз только обуза для армии. Если считать, что противогаз весит около килограмма, а на фронте, предположим, пять миллионов солдат, то выходит, что армия таскает на себе пять тысяч тонн никому не нужного груза.
Чтоб окончательно успокоить Якова, он принялся излагать свои взгляды на перспективы химической войны. Они были обнадеживающими.
— Немцы этим летом не пустят удушливые газы, — убежденно заявил он. К химическим средствам, скорее всего, прибегнет отступающая сторона. А немцы наступают и уверены, что будут наступать. Какой же им смысл отравлять местность, по которой нужно идти, губить водоемы, из которых пить? Так ведь?
— Нет, не так, — возразил я. — Дело не в том, кто наступает, а кто обороняется, а в том, кто более коварен, бесчеловечен, жесток. В прошлую войну мамин дядя нанюхался на фронте газов, лежал в Нальчике, там для отравленных были специальные лазареты. Так вот, в шестнадцатом году немцы как раз наступали.
— А на Западе, на реке Ипр, — вставил Яков, — когда немцы применили газы…
Закончить он не успел. Раздался близкий пистолетный выстрел, пуля просвистела над нашими головами. Мы плюхнулись на землю, испуганно глядя друг на друга.
— Стреляли вроде бы с нашей батареи, — определил Яков. — Куда поползем?
— А ну, поднимайтесь, негодяи! — услышали мы разъяренный голос старшего лейтенанта Хаттагова. — Расстрелять вас, сукиных детей, и то мало!
Командир роты размахивал пистолетом перед нашими носами. По его свирепому виду я понял, что он и в самом деле готов нас убить. Но я не понимал, в чем же мы все- таки провинились: он сам разрешил нам отлучиться на пятнадцать минут.
— Что означает этот дурацкий маскарад? — кричал Хаттагов, стуча рукояткой пистолета по нашим каскам. — Еще бы чуть-чуть, и вас бы уложили на месте свои же ребята. Да черт с вами, погибайте, если вам нравится! А что прикажете делать командиру роты, когда совсем рядом с батареей мелькают немецкие каски? Докладывать комбату, что фашисты зашли нам в тыл? А комбат должен снимать с передовой роту автоматчиков и бросать сюда, так, что ли? Вы понимаете, что натворили?
— Понимаем, — упавшим голосом пролепетал Виктор. — Только я больше всех виноват: мне пришла в голову мысль надеть эти каски. Простите.
Хаттагов никак не мог успокоиться:
— Как — простить? Фашисты специально забрасывают диверсантов, чтоб посеять панику в тылу. А когда у нас есть такие олухи, как вы, им и забрасывать никого не надо. Не ждите никакого прощения, пойдете под военный трибунал. Марш по местам! Да выбросьте, черт возьми, эти фашистские каски!
И этот разговор слышала вся батарея. Позор! Мы поплелись, понурив голову, стараясь не глядеть ребятам в глаза. Что тут скажешь, подвели роту, наделали переполох, чуть не спровоцировали настоящее сражение…
Нас, однако, встретили не руганью, а насмешками. Пищу для шуток мы дали богатейшую. Видя наши душевные терзания, Ваня Чамкин осадил не в меру развеселившихся остряков, проезжавшихся по нашему адресу. А нам шепнул:
— Не казнитесь, за немцев всерьез вас никто не принял. Одного сразу же опознали по чарличаплинской походке, двух других, долговязых, ни о кем спутать нельзя. А командир роты правильно сделал, что вам устроил втык. Додуматься же до такого: разгуливать по передовой в форме врага! Только не бойтесь: под трибунал старший лейтенант вас не отдаст. Мужик он отходчивый. Простит на первый случай.
После долгого и тяжелого сражения за Подгорное батарея приводила себя в порядок. Банником очищали от гари и копоти минометные стволы, смазывали маслом, наводили марафет в окопах, будто собирались прожить в них очень долго. Небензя на своей Варварке отвез в полковую санчасть помкомвзвода Чепурнова и еще трех бойцов, раненных при смене позиции. На обратной дорого захватил сухарей, сахару, табаку да еще принес новость: сегодня на батарее должен быть почтальон. Кинулись писать письма. Я прилег на солнышке, положил клочок оберточной бумаги на пустой лоток, достал карандашный огрызок. «Дорогая мама!» — только-то успел написать я.