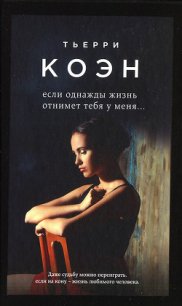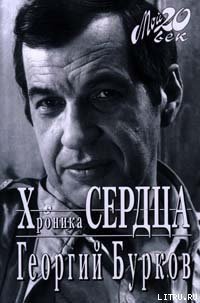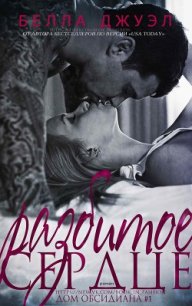Книга о разведчиках - Егоров Георгий Михайлович (полные книги TXT) 📗
В одну из ночей мы подползли близко к пулемету, пролежали чуть ли не до рассвета, наблюдая. Мы выяснили, что пулемет закреплен в ячейке намертво. А от спускового крючка в блиндаж — за полсотни метров — протянут шнур. Таким образом, пулеметчик сидел в тепле, время от времени натягивая шнур, и пулемет делал короткую очередь по пристрелянному сектору. Три раза за ночь пулеметчик приходил в ячейку заряжать новую ленту — это тоже мы выяснили. Причем проходил всякий раз настолько близко, что нас так и подмывало взять его. Особенно большой соблазн был, когда он заряжал пулемет, непрестанно оглядываясь по сторонам. Но брать было нельзя. Каждый из нас усвоил заповедь номер один: где кончается выдержка, там уже нет разведчика! Взятие «языка» тщательно готовится многими людьми, хотя берут его непосредственно двое-трое. Поэтому-то рисковать операцией нельзя, поэтому-то мы и пропускали мимо себя пулеметчика, не тронув его, — надо было выяснить, не вдвоем ли они, не охраняет ли его кто из блиндажа. Только на вторую ночь мы взяли этого пулеметчика.
Взяли просто и без шума. Булатов сел в окопчик к пулемету, а мы замаскировались неподалеку. Не дожидаясь, когда кончится лента, Булатов завязал шнур за колышек, на котором был укреплен пулемет. И фриц, бурча что-то под нос, явился. Он привычно спрыгнул в окопчик, мы — на него. И не успел он опомниться, как Булатов засунул ему кляп в рот.
Сначала он полз с нами через минное поле, потом, когда спустились в седловину, побежал бегом — они, эти «языки», как правило, всегда были послушны…
Я не помню, сколько раз еще ходил с Булатовым. Запомнил только его последнюю вылазку.
Перед этой последней вылазкой Яков вдруг изменился — перестал улыбаться, сторонился ребят, стал задумчивым, совершенно не походил на самого себя. На вопросы ребят, что с ним стряслось, отмалчивался. Наконец его все-таки вынудили ответить.
Он протянул нам письмо от жены. Письмо было написано малограмотными каракулями. Там было всего несколько строк. Но это письмо показалось мне тогда чудовищным. Она писала, что не хочет дожидаться его с фронта, что жизнь уходит, а она молода и поэтому вышла замуж… Я не знаю ее имени, не знаю, прочтет ли она это, я не хочу ее упрекать в чем-либо — она, может, уже сотню раз раскаялась, ибо жизнь, я уверен, по-своему жестоко наказывает за такое, — хочется только одно сказать: он любил эту женщину до самого последнего своего дня, несмотря ни на что. Мы-то это видели.
А последний его день был таким. В тот раз мы наткнулись на нейтральной полосе на неприятельскую разведку, шедшую к нашему переднему краю. Шли мы на «громкое» дело — нужно было с боем взять блиндаж, шли чуть ли не всем взводом — человек восемнадцать. Гитлеровцев, встретившихся нам, оказалось раза в три больше. Но мы имели преимущество: находились ближе к своему переднему краю — как говорят, дома и стены помогают. И еще — мы могли укрыться за выступами камней. Это было и нашим преимуществом и в то же время оказалось нашей бедой. Камни выступали на небольшой площади, поэтому, укрывшись за ними, мы тоже сгрудились. А в таком случае попадание даже одной мины могло наделать много бед. Так оно и произошло.
Редкими и страшными бывают такие совпадения, когда две разведки встречаются на «нейтралке», — у меня, например, за два с половиной года это единственный случай. Бой был стремительным и жестоким. За несколько минут мы опорожнили по пять круглых дисков и побросали по десятку гранат. Фрицы, застигнутые на чистом месте, полегли чуть ли не наполовину. Но и нас они потрепали изрядно. Не одна, а несколько мин из их ротного миномета попали прямо в середину нашей группы. Булатов лежал рядом со мной. Я — выше, стрелял из-за каменного выступа, а он на уровне моих коленей. Он стрелял, положив автомат в расщелину камней. Одна из мин разорвалась прямо перед ним.
Когда враг побежал, мы осветили место боя, выпустили вдогонку по длинной автоматной очереди и стали выяснять, кто из наших жив, кто ранен. Раненых оказалось больше половины. Тяжелее всех Булатов. Он тряс головой и пытался приподняться на руках. Я чувствовал в своем правом валенке тепло — значит, кровь, видимо, одной миной нас ранило. Ребята помогли Булатову подняться, подхватили его под мышки, и все мы — кто как мог — побрели назад. Раны зажимали, как могли, затыкали разорванными индивидуальными пакетами — было не до перевязок, обмотали наспех бинтом только голову Булатова.
Вдвоем с кем-то из раненных тоже в ногу мы брели последними, держали наготове автоматы и то и дело оглядывались — не вздумают ли гитлеровцы вернуться. Но им было, должно, не до этого.
При вспышках ракет я видел, с каким трудом Булатов переставлял ноги, повиснув на руках товарищей.
Метров триста-четыреста надо было пройти до нашего переднего края. Несколько раз ребята пытались нести Булатова, но он отказывался и шел сам. Когда подошли к траншеям, Яков сказал еле слышно:
— Все…
Упал и умер.
Похоронили мы Якова на кладбище в центре Любара. Поставили пирамидку из артиллерийских ящиков, звезду сверху. Написали, что здесь лежит разведчик Яков Булатов. Может, до сих пор сохранилась эта пирамидка, может, любарские пионеры заботливо ухаживают за ней, по весне кладут на могилу первые цветы.
Глава семнадцатая. О ягненке, Дудке и старшине Федосюке
Все трое были достопримечательностью взвода. И хотя ни тот, ни другой и ни третий «языка» не брал, все-таки мы единодушно считали их равноправными разведчиками…
Ягненок появился у нас во время бомбежки в каком-то селе. Насмерть перепуганный, он вскочил на тачанку и забился под тулуп — наверное, посчитал его за мать. А из-под тулупа вылез, когда мы были уже далеко от села, в поле.
— Ребята! Смотрите, кого фриц сбросил нам вместе с бомбами! — визжал от восторга Дудка.
Ягненок с детским любопытством смотрел на пацана, наклоняя голову то на один бок, то на другой. Потом взвился на дыбки, поджав передние ножки, и нацелился выпуклым ребячьим лбом в Дудку — он уже забыл о бомбежке и только что пережитом страхе, ему хотелось играть.
Ребята окружили тачанку, и началась возня с ягненком — они тоже забыли о бомбежке, забыли, что находятся на фронте, а не в колхозной кошаре.
Ягненок бесстрашно сиганул на землю. Сделал несколько скачков в сторону и навострил уши. Ребята, растопырив руки, подступали к нему. Но он, шустрый и ловкий, проскакивал между ног. Выскочит из круга, остановится и смотрит на нас вызывающе озорно.
— Найшлы забаву, як той дурень цацку! — раздался вдруг отрезвляюще спокойный голос старшины. — А вы. оболтусы, пытали его, чи ив он сегодня шо-нибудь, чи ще ни?
— Правда, ребята, может, он голодный?
Кто-то потянул с тачанки клок сена, кто-то накрошил на ладонь хлеба и стал протягивать ему.
— Геть, дурни! Вы ему мьяса шмат дайте, а после ще цигарку… Ну и бестолковый народ!.. Ему молока треба. Бачь, який вин махонький. А вы ему сина!..
— Старшина, а сахар он будет?
— Сахар? — Федосюк задумался. — Должон. Ежели, конечно, приучен. Тильки навряд ли. Пид нимцем люди-то отучились сахар исты, а не то скотиняка…
Ягненка довольно быстро «приучили» есть сахар и, ко всеобщему удивлению… махорку. Тут, правда, дело чуть не дошло до скандала: половина взвода считала, что он отравится табаком, а другая утверждала, наоборот, что они, бараны, любят махру…
Поступил приказ двигаться дальше. Запихивая за пазуху по горбушке хлеба, мы побежали вперед. Кто-то крикнул:
— Старшина! Ягненка никуда не девай! Пусть в тачанке ездит!
— Ты шо, мени командир, чи шо — приказываешь, — бурчал Федосюк. Но тут же согласился: — Хай издэ… Все Дудке забава будэ…
Большое село, в которое мы только что вошли, было безлюдно — то ли гитлеровцы угнали всех жителей, то ли они сами разбежались по окрестным лесочкам, а может, попрятались по погребам. Мы вдвоем с кем-то наткнулись среди пустынной улицы на корову, бредущую с распухшим выменем. Переглянулись (а оглянуться не догадались) — и поняли друг друга. Я ухватил корову за рога, а товарищ подобрал немецкую каску, выдрал из нее внутренности и пристроился под вымя.