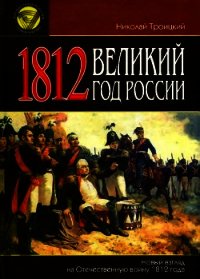Дикая дивизия - Брешко-Брешковский Николай Николаевич (бесплатные версии книг TXT) 📗
Окруженный свитою из матросов и комиссарской мелкоты, Гелер обходил заключенных. Он спросил Лару:
– Вы за кем числитесь?
– Ни за кем. Я была арестована еще при Керенском.
– А… – протянул Гелер, – я разберу ваше дело.
Вечером он ее вытребовал к себе в низенькую тюремную канцелярию в одном из флигелей.
Через день Лара была у себя, у Таврического сада, и Гелер прислал ей большую корзину с вином, фруктами, холодным мясом, консервами. Для голодающей столицы это была роскошь неслыханная.
К ней часто приезжал Гелер со своими товарищами. Кутили, хохотали, пели, лилось шампанское. Нюхали кокаин. И Лара нюхала.
Так прошел год.
Комиссары посещали гражданку Алаеву, но уже без Гелера. Этот наглец, уличенный своими же в какой-то грандиозной спекуляции, был расстрелян, как до сих пор он сам расстреливал «классовых врагов». Его заместитель предложил как-то Ларе:
– Товарищ Алаева, вы можете быть нам полезной в Европе. Вы знаете иностранные языки, и вообще вы дамочка хоть куда! Я вам устрою выгодную командировку.
У Лары все замерло внутри, а потом шибко-шибко забилось сердце. Только светская выдержка не выдала безумной радости. И, незаметно для комиссара овладев собою, она ответила спокойно, и даже с каким-то снисходительным оттенком:
– Об этом можно подумать. Вы правы. Я могу быть вам полезной именно там!
И вот она в Париже. У нее деньги, большие деньги в самой разнообразной валюте.
Тогда еще Франция не признавала советскую власть, и кремлевская шайка, не щадя затрат, посылала своих агентов в Париж.
Но Лара не оправдала надежд. Она не только не приносила пользы пославшим ее, а, наоборот, поносила большевиков в тех международных кругах, в которых за несколько лет успела сделаться своею.
Но политикой Лара не занималась. Все более и более овладевало ею безразличие, начавшееся еще в Петрограде.
Ее видели в обществе элегантных мужчин, видели всюду, где шумно, людно. И всегда Лара была со вкусом одета, низко подстрижена, с густо накрашенным ртом, с длинным мундштуком вечно дымящейся папиросы.
Русских она не то чтобы избегала, а не искала встреч с ними. Но все же случалось говорить со знакомыми. Они ей сказали, что Юрочка убит на юге России, убит в борьбе с большевиками. Юрочка… в свое время такой близкий, родной, такой друг, бескорыстный и верный! Бедный Юрочка!
Иногда вспоминала Тугарина, думала о нем, но все сведения о Тугарине сводились к одному: и он, как и Юрочка, дрался с большевиками, командовал сводным «туземным» полком, был, как всегда, смел и отважен, и дерзок… Но врангелевская эвакуация не прибила его к константинопольским берегам. И вот уже много лет о нем ни слуху ни духу. Жив ли? Скрывается где-нибудь, или же тайну его гибели хранит какой-нибудь забрызганный кровью советский застенок?
И все реже и реже вспоминала она когда-то любимого человека.
Время, угарная жизнь, кокаин отдаляли и стирали его образ, и он бледнел и бледнел, превращаясь в подведенных глазах Лары в нечто совсем отвлеченное…
Близкие-далекие
Русские мирно завоевывали Париж на всех поприщах.
Русские мальчики и девочки первыми шли в гимназиях, колледжах и ремесленных школах. Русские певцы были первыми. Русские танцовщицы тоже.
Русский повар Корнилов, служивший двум императорам, взял первый приз на конкурсе всесветных кулинаров. В награду получил один из предметов тонкого ремесла своего, похожий на фельдмаршальский жезл. Да и в деле своем разве не был фельдмаршалом?
Небольшой ресторан его на скромной и тихой улице, на подступах к Монмартру, привлекал всех, кто любил и умел вкусно и с толком поесть.
Всегда было полно. Публика терпеливо ждала, пока освободится столик.
Особенный колорит, и колорит хорошего тона, вносила фигура самого шефа в белом колпаке, с живыми, ясными глазами под седыми пучками бровей.
Корнилов приветливо обходил своих гостей, вспоминая прошлое с теми, кто знал его по России на протяжении многих лет.
Иногда, как художник, под наитием вдохновения жадно хватающийся за палитру и кисти, спускался Корнилов вниз, па кухню, чтобы самолично приготовить гостю-гурману одно из тех блюд своих, коими он так славился. Строгий к себе Корнилов был строг к своим помощникам. Они у него часто менялись, но кто уживался долго, тот действительно мог выдержать самый требовательный экзамен.
В числе таких поваров был и полковник артиллерии Николай Владимирович, миниатюрный, с маленьким юношеским лицом и с громадными усами. Белый поварский колпак сообщал ему что-то умилительное и веселое.
Вот и сейчас сквозь приоткрытую дверь он наблюдал публику, и его громадные усы шевелились в детски добродушной улыбке. Думал ли он пятнадцать лет тому назад, что герцог Сандро Лейхтенбергский, в штатском, такой же эмигрант, как и он, будет сидеть в нескольких шагах за столиком, а он, Николай Владимирович, командир батареи, будет печь кулебяку, варить борщ, жарить шашлыки в маленькой подвальной кухоньке?.. И видит он знакомый, примелькавшийся здесь затылок дамы. Ее прозвали здесь «дамою с длинным мундштуком». Сегодня с ней какой-то новый господин. Несмотря на дорогой костюм и бриллиантовый перстень, вид у него плебейский и неприятна его громкая, хриплая речь с восточным акцентом. Он хлещет шампанское и ест с чудовищным аппетитом, особенно же приналег на действительно очень вкусный пломбир: уничтожив две порции, потребовал третью:
– Хорошо мороженной! Давай еще!
– Пломбир весь вышел, – ответил ему лакей.
– Как вишел? Почему вишел? Давай, говорят тебе!
Лакей, сдерживая бешенство, корректно ответил:
– Пломбира больше нет!
– Какой черт нет! Давай сюда хозяин! – уже орал лейб-медик шаха персидского на весь ресторан.
Корнилов был тут как тут. Глаза его под серыми пучками бровей с холодным презрением остановились на беспокойном и шумливом госте:
– Чем вы недовольны, сударь?
– Что за порадки? Морожени нет!
– Вам сказано, что пломбир вышел… И вообще, кому порядки наши не нравятся, тот может не ходить.
Это было так сказано, что нахал тотчас же присмирел.
– Ну, что такое, хозяин? Не сердись. Выпьем шамански?
– Нет, нет, увольте, я занят, – молвил, отходя, Корнилов.
А дама сидела, как автомат, ничего не видя и не замечая.
С герцогом Лейхтенбергским было двое. Один – жизнерадостный, улыбающийся, с умными глазами на румяном, широком лице – Тапа-Чермоев; другой – темный блондин с бородой.
Перед ними стоял кофейник – тонкий стеклянный шар, наполненный горячей густой жидкостью. Как желто-зеленый тигровый глаз, переливался в рюмочках маслянистый ароматный ликер.
Темный блондин с бородой продолжал свой рассказ:
– Большая часть ингушей уже пластом лежала от истощения н голода, уже не было никаких надежд на помощь извне, уже мы не сомневались, что Алексеенко убит, убит, переползая улицу в нескольких шагах от нас. Уже близилась третья ночь нашей осады. Мы не отвечали на выстрелы. Винтовочные обоймы все вышли, а в револьверных барабанах осталось по два патрона. Один – для врагов, лицом к лицу, во время штурма, другой – для себя… Тапа, ты помнишь Волковского? При жизни он был такой маленький, невзрачный, а труп его раздуло, и он лежал громадный, какой-то гороподобный… Страшно было смотреть на него!
И вот, когда мы уже совсем отчаялись, внезапно пришло избавление. Мы услышали топот по крайней мере двух сотен, услышали нараставшие крики «Алла!» и выстрелы. Ингуши налетели конной атакой на терцев и, смяв их, часть порубили, часть прогнали. Вел их ротмистр Бек-Боров. Он, кажется, Тапа, родня тебе по жене? Он первым ворвался в гущу терцев и погиб, пронзенный пулями…
Собеседники внимали, затихшие. Улыбка давно сбежала с лица Чермоева. Это минувшее казалось таким трепещущим, ярким и свежим здесь, в мирной обстановке парижского ресторана.
Но как бы удивились все трое, узнав, что через несколько столиков от них сидит спиною к ним экс-фельдшер Дикой дивизии, зачинщик и подстрекатель всей этой кровавой авантюры.