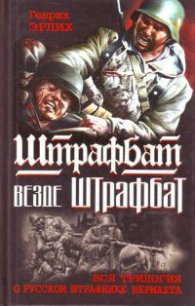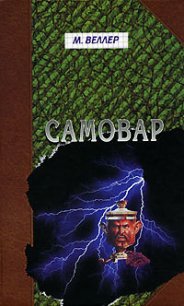Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Шишкин Евгений Васильевич (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Рубеж, однако, был уже потрепан. Несколько орудий угроблено. Пролилась первая кровь.
— Вона — покатили гаденыши!
— Какие-то большие. Я этаких еще не видал.
— «Пантерами» называют, «тиграми».
— Названья-то как зверью дали.
У орудий засуетились батарейцы. Бронебойщики прижались к длинностволым ружьям. Над траншеями замелькали каски. Все было ожидаемо, по давно отработанной военной схеме, и все же как-то внезапно, — словно бы сама смерть, которая всегда ожидаема и неминуча и всегда внезапна. По склону ползли немецкие танки — пятнисто окрашенные, будто в серых и зеленых заплатах. Покачиваясь на кочках и мотая стволами пушек, они раздерганной цепью катили по лощине. Иногда они били с ходу, иногда останавливались — из жерл стволов вырывалось пламя, а на линии обороны взнимались комья земли и россыпи осколков. Сизый дым выхлопных газов, рев моторов и стрекот башенных пулеметов, которые били больше для устрашения, сопровождали ход этих дьявольских каракатиц.
— Пехота высадилась.
— Эх ты, да сколь много-то!
— Поползли сучары!
Следом за танковой цепью в лощину скатились бронетранспортеры. С них попрыгали и рассредоточились по сторонам черные фигуры автоматчиков.
Солнце освещало бока железных махин, длинные тени от них скользили по траве. Кусты орешника и жимолости вздрагивали и ложились под гусеницы. Несмотря на вой снарядов и гул взрывов, над лощиной копилась какая-то крайняя тишина.
Прошло еще несколько минут. А возможно, секунд. Время стало неуловимым — и секунда могла длиться минуту, и минута могла съежиться до секунды. Расстояние между танками и позициями батальона, казалось, катастрофически сократилось. Танки уже стали отчетливо видны, немецкие пехотинцы силуэтно прорисованы. Но артиллерийские орудия молчали.
— Чего пушкари-то ждут? Чего медлят?
— Поближе подпускают. Чтоб с прямой наводки, чтоб уж точно…
— Будет им сейчас наводка…
— Эх, и накатят!
— Ну давайте же, давайте, ребята! Жахните по этим паскудам!
Чем ближе подкатывали танки, тем ближе была минута, когда промедление переламывается в отчаяние и страх опрокидывает ощущение собственной силы.
— Да что они? Уснули там, черти!
— Сдурели! Задавят счас!
— Огонь!!! — прогромыхал чей-то голос.
На склоне лощины один за одним поднялись фонтаны взрывов. Ропот ликования прокатился по траншеям.
— Огонь!!!
— Ну вот, наконец-то!
— Ага! Завелись!
— Коси их, ребята!
Огневики шпарили изо всех орудийных стволов. Наводчики, еще не зачумленные от грохота и усталости, оказывались точны. И вот уже головной танк объяло пламенем. Вот уже другой зачадил поверженным дымом и полз по инерции железной никчемной тушей. Еще у одного разорвало гусеницу, он резко крутанулся и стал, просев на один бок Захлопали ружья бронебойщиков, задорно зачастил станковый пулемет, расстреливая экипажи из подбитых пятнистых машин и доставая немецкие пехотные цепи. Казалось, все, что могло стрелять, пустило в ход свои затворы.
Зеленый склон, где когда-то был добрый выпас для скота, становился изгаженным изуродованными машинами, трупами, дымящимися воронками. Над лощиной разлилась безумствующая музыка первого дня Курской схватки — беспощадная какофония, сложенная из разрывов, грохота пушек, воя самолетов, пулеметной стрельбы и автоматных очередей. И чем беспорядочнее, громче и дичее становилась эта музыка, тем все меньше оставалось мыслей у ее исполнителей, ибо в горячечной озверелости боя меркло сознание, и даже страх переходил в самозабвенную радость ненависти.
В этот день Федор почти не произнес ни слова. Только какие-то возгласы — то с отчаяния, то с изумления — и нечленораздельные матюги. Федор, казалось, ничего сам не соображал. Он нерасчетливо стрелял длинными очередями из автомата — наугад, по направлению противника; он куда-то бежал по траншее за Лешкой Кротовым и кидал в танк бутылку с зажигательной смесью; он по чьему-то приказу заменял подносчика снарядов и видел, как пот градом льется с лица заряжающего, а гимнастерку на нем хоть выжимай; он завороженно наблюдал, как из подбитого русского истребителя вывалился летчик и под куполом парашюта опустился на заминированное поле и там подорвался; он, уткнув подбородок в бруствер, стоял возле пулеметчика и, оглохнув на одно ухо от стрельбы пулемета, смотрел, как остервенело, будто в пьяном кураже, немцы поднимались в атаку, падали от кинжального огня, тыкались носами в кусты и воронки, и вдруг снова поднимались, и снова падали, и опять отупело, самоубийственно поднимались. Он видел, как погиб командир отделения, коротышка Бурков. Когда до передовых окопов батальона дорвался немецкий танк, сержант часто заморгал, а потом с искривленным злобой лицом схватил гранату и бросился к железной хламине. Буркова срезало отрикошетившим осколком собственной гранаты, но и танк, потеряв разгон, просел одной гусеницей в траншею, зачихал мотором, застрял и был закидан гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Из немецкого танка выскочил горящий немец, тут же был дострелен и упал рядом с погибшим сержантом. Над телом немца еще долго вился дымок, как от коптящей свечки, и разносился тошнотворный запах человечьей палятины.
Из донесения начальника штаба дивизии подполковника Исаева в штаб армии:
«…данный участок противник в течение дня атаковал шесть раз. Дважды оборона была прорвана. Но противнику закрепиться не удалось. Благодаря самоотверженным действиям противотанковых батарей и подразделения капитана Подрельского, при поддержке авиации, противник был отброшен на исходные рубежи. При этом потерял несколько танков и большое количество живой силы. Наши подразделения тоже понесли большие потери личного состава и техники. Для того чтобы противник не смог прорвать оборону, считаю целесообразным перебросить на этот участок танковый полк».
6
Лешка Кротов сидел в траншее и крепкими нитками ушивал на себе портки. Осколком снаряда сбоку над коленом ему пробило штанину, а ногу, по счастью, даже не шваркнуло.
«Видать, долго Лешка жить собрался, — наблюдал Федор за его иглой. — Швы частые кладет. На век хватит. А ведь еще одна ихняя атака, и ничего от нас не останется».
Привалясь спиной к земляной стене, Федор устало закрыл глаза. В ушах по-прежнему гудело от дневного грохота, перед глазами непереставаемо ползли по склону танки, а за ними шли эти — долговязые, жилистые, с крепкими подбородками, в коротких сапогах, с орлами на касках Курты и Гансы (да леший знает, как их там еще) — оголтелые, свято преданные чему-то.
— Лешка, — негромко позвал Федор (за сегодняшний день он впервые говорил связно и осмысленно). — Вот сидим мы с тобой здесь, под Курском, в поле. Это мне понятно. Мы тут на своей земле. Здесь такие же русские мужики живут, что у тебя на Оке, что у меня на Вятке. А они-то по кой хрен? Вон трупов-то сколь! Зачем? Ты, Лешка, знаешь, зачем они здесь?
Лешка остановил движение иглы, улыбнулся молочно-розовым ртом и пожал плечами.
Еще часто на войне Федора будет мучить вопрос: «Зачем все это?» Он даже не будет произносить его вслух или мысленно, но неразрешимая смута будет возникать в нем при виде немецких трупов. В этой смуте не будет жалости, но много — безадресного упрека и печали.
В лощину наползал туман. В тумане уродливыми гробинами темнели подбитые танки. Старшина Косарь приехал на позицию с полевой кухней, кормил остатки батальона кашей, выдавал водку и сухпайки на завтрашний день. Полуторка с красным крестом забирала раненых, чтобы свезти в тыл. Похоронная команда зарывала в землю убитых. Становилось сумрачно. Солдаты валились с ног от усталости.
Ночью над нейтральной полосой то и дело вспыхивали осветительные ракеты. Иногда немецкий пулеметчик посылал для острастки в темноту длинные очереди трасс; из неспящего орудия с проклятым воем вырывалась дежурная немецкая мина. Далеко за лесом колебалось на небосклоне багровое зарево какого-то гигантского пожара. Время от времени в небе то с запада, то с востока нарастал и куда-то уходил гул моторов: самолеты шли на ночную бомбежку.