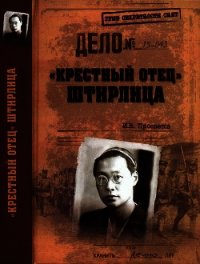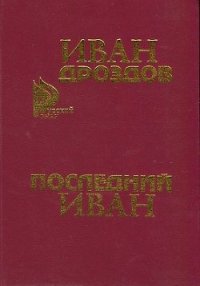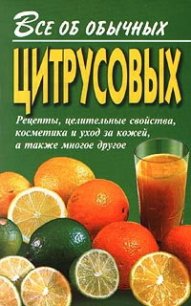Дорогой отцов (Роман) - Лобачев Михаил Викторович (читать полную версию книги TXT) 📗
Подвал был полон людьми. Павел Васильевич внимательно присматривался к своим жильцам, каждого спрашивал, откуда и кто такой, чем занимался и как думает «обстроить» теперешнюю жизнь. Павел Васильевич курить в подвале запретил категорически. В минуты затишья он выходил из подвала, брал метлу и подметал улицу. Звенели битые стекла, поднималась над улицей известковая пыль. Все сметал с обожженного асфальта Павел Васильевич, и никто еще так старательно не убирал улицы. А враг возьмет да и сбросит несколько фугасок, и опять улица замусорится, и опять Павел Васильевич берется за метлу. А когда над ним загудит вражеский хищник, он, вздернув голову, кричит:
— С места не сойду, иродово семя! Голову, все быть может, размозжишь, но душу не расстреляешь, нет! — Павел Васильевич шел по пепелищу, собирал в развалинах железо, печные вьюшки, плиты.
— Строиться будем, каждому гвоздю найдем место, — рассуждал он, стаскивая обгорелое кровельное железо. — Не думал, не думал, что так получится. До Сталинграда пропер. Главная сила — остановить, а там все легче будет. Неужели и Сталинград не удержим? Быть того не может. Без Сталинграда задохнемся.
В проломе стены показалась женщина.
— Павел Васильевич! — дико вскрикнула она.
— Что случилось?
— Идите скорей!
— В чем дело, спрашиваю?
— Лексевну там бомбой…
Когда Павел Васильевич, задыхаясь, добежал до набережной, его Лексевна находилась в безнадежном состоянии.
Он взял железную лопату и вышел на воздух, стал рыть могилу на пепелище родного дома. «Приготовить надо — или мне, или Лексевне». Трудился долго, могилу вырыл просторную. «Хорошо бы вместе лечь». Когда в последний раз звякнула лопата, Павел Васильевич, понурив голову, сел среди развалин на поджаренный кусок стены. Ветер сдувал к его ногам теплую золу пожарища.
Разрушения в Сталинграде ошеломили Григория Лебедева. Он долго в немом молчании стоял на площади и не мог поверить, что от города остался один прах. Вот бывшая гостиница. В нее он вложил немалую долю своего труда. Теперь она разрушена. Всюду уродливо висели погнутые железные балки, водопроводные трубы, ощерились железные прутья из разрушенного бетона, торчали над улицей раздробленные балконы, ворохом лежали скрюченные кровати. Лебедев подошел к парадному подъезду. Оттуда дул горячий терпкий ветерок. Лебедев круто повернулся и быстро зашагал на север, на Республиканскую улицу, заваленную разбитыми повозками, обгорелыми машинами, перепутанными проводами, дробленым кирпичом. Он шел и не узнавал родной улицы, по которой ходил много лет.
Навстречу ему с фронта шли к волжской переправе раненые солдаты. След коснувшейся смерти лежал на всем: и на разрезанном сапоге, и на разорванной поле шинели, и на кровавых повязках, и на бледных, измученных лицах.
Ему вдруг представилась Машенька, шагающая по Сталинграду с такими же усталыми и печальными глазами. На Машеньке — белоснежное платье, купленное им за неделю до войны. Идет Машенька по улице, а кровь капля за каплей стекает с ее праздничного платья. Лебедев не раз видел подобные картины. Он прибавил шагу.
К его великой радости угловой дом на площади Девятого января, в котором была его квартира, оказался неразбитым и несгоревшим. Во дворе было тихо, мертво. Лебедев остановился, смотрел в пустые окна, ждал человеческого голоса. Напрасны были ожидания — все молчало. Лебедев повернул к своему подъезду. Под ногами хрустело битое стекло. Хруст гулко раздавался в пустом дворе. Пошел вверх по лестнице, замусоренной известкой, брошенной домашней утварью.
Все квартиры раскрыты, с расщепленными дверями, с холодными сквозняками. На полу валяются раскрытые чемоданы, разбитая посуда; стоят заваленные штукатуркой стулья, комоды, диваны. Лебедев вошел в свою квартиру. Здесь тот же хаос: все двери сорваны с петель, на полу — мусор. Он подошел к подоконнику, затрушенному пылью, сажей и битым стеклом. Чужой казалась ему теперь своя квартира.
Где-то совсем близко грохнула тяжелая бомба; взрывной волной до фундамента потрясло здание, с резким скрипом раскрыло дверцы шкафа. Лебедев вернулся в столовую, подошел к шкафу, наклонился и, сам не зная для чего, стал рыться в ворохе белья. Несколько пар носков он отбросил в сторону и взял коричневое Машенькино платьице. Он долго держал его в руках, затем, скомкав, сунул в карман. «Где семья? Где ее искать?»
Лебедев отправился на металлургический к Солодковым. До них — не более шести километров, а до тракторного насчитаешь все пятнадцать. Если Солодков дома, думал Лебедев, то он наверняка знает, где находится Иван Егорыч, и это уже облегчит ему поиски своей семьи.
Григорий застал у Солодковых жену сталевара — Варвару Федоровну, не захотевшую выехать за Волгу до тех тор, пока муж и свекор оставались в городе. Она усталым голосом объяснила Лебедеву, что Александр воюет за тракторным, на днях приходил за пополнением и опять «ушел на войну».
— Ну, а папа… Иван Егорыч, не знаете, где? — спросил Лебедев.
— На заводе танки ремонтирует, а живет на берегу. Землянку вырыл и живет у самой воды.
…Лебедев нашел своих в добротной землянке, вырытой в крутом глинистом пригорке у самой Волги. В землянке была только мать, Марфа Петрова. Она сидела за самоваром, пила чай. Увидев сына, Марфа Петровна выронила из рук блюдечко. С резким звоном блюдечко ударилось о край стола и, дребезжа, скатилось на земляной пол. Марфа Петровна кинулась к сыну и повисла на его плечах.
— Гришенька… милый…
Марфа Петровна грузно опустилась на обгорелый стул.
— Гришенька, беда-то какая на всех навалилась. Всю жизнь разломал, аспид. Ничего-то у нас не осталось. Все порушено. Кругом слезы.
И много рассказала мать сыну. Рассказала о том, чего бы он не увидел солдатским глазом, чего бы не подслушал мужским слухом, чего бы не понял своим умом. Григорий увидел мать в новой человеческой красе. И чем больше он слушал ее, тем глубже проникала в него суровая правда жизни. И когда мать умолкла, Григорий робко спросил:
— А где папа?
— На заводе. Танки латает. А поперва-то воевал. Не пускала, да разве его угомонишь? Ты сам знаешь, какой он. Сел на танк — и в бой. Наши-то прямо из цехов — и на аспидов. А отец было совсем в плен угодил. Он как, стало быть, пролетел на своем танке к аспидам, так сгоряча-то и начал их давить. Раз по нехристям прокатился, два прокатился, а в третий — и сам на беду налетел. Разнялась на танке гусеница. Стали ее налаживать, а басурманы по нему бух да бух. Ну, и царапнули его. Две версты полз. Пришел домой в одних лоскутках. Придет повар — пойдем к отцу.
— Какой повар? — удивился Григорий.
— Красноармейский.
Однажды к Марфе Петровне в землянку заглянули бойцы, попросили у нее кипяточку. С того дня и завязалась у нее дружба с молодыми солдатиками, как она их звала. Марфа Петровна с ними была добра и приветлива, и когда она приходила к ним в блиндаж, гвардейцы радостно восклицали:
— Мамаша пришла.
— Пришла, сынки. Я и не уходила. Ну, как вы тут живете?
Марфа Петровна стирала и чинила белье, иногда перевязывала раненых, а некоторых даже провожала до берега Волги. У этих как будто затихали боли в ранах; такие даже пытались шутить. А оставшиеся в окопах спрашивали:
— Мамаша, а меня проводишь, если что случится?
— С тобой ничего не случится. Я тебя заговорила.
Марфа Петровна приходила к солдатам в минуты затишья. Бои пересиживала в своем блиндаже.
— Мамаша, почему ты не уходишь из города? — однажды спросили ее бойцы.
— Нет уж, сынки, я около вас побуду. Зачем уезжать? Люди мы свои, и в обиду, я так думаю, меня не дадите.
— Мы вас перевезем за Волгу.
— У меня здесь муж, сын с дочерью, внук. И все при деле.
— Воюют?
— Которые воюют, которые танкам новую жизнь дают, а которые по другим заданиям. Все при деле. И уходить мне отсюда нет никакого резону.
Слушал Григорий мать и дивился. Если бы все это он видел во сне, тогда это было бы другое дело, но перед ним была подлинная явь. Мать спокойно говорила: