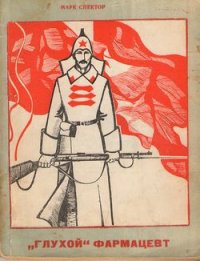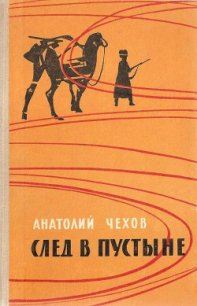Смерть считать недействительной (Сборник) - Бершадский Рудольф Юльевич (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
И миновал такой же нелетный день…
Да когда же будет приказ? Ведь город — вот он! В отсветах вспышек видно даже, как откатывается ствол на лафете немецкого орудия, установленного на городской улице.
Но нет, лежи. И ни за что не выдавай себя!..
Второй день лежания на исходной. Вьюга кончилась. Теперь и самолеты могут поддержать. Но приключилось что-то непонятное с погодой. Дождь! В декабре!
…День, похожий на что угодно — на рассвет, на сумерки, но никак не на день. Небо и землю застлал туман, он обволок сплошь все. Только торчат впереди ворота в поле.
Откуда они? Почему? Будто в страшной сказке — не к добру ведут голые ворота в чистом поле. Что за ними?
Но нет за ними ничего, и зря они заложены на засов. Так замкнул их хозяин, покидая дом: чтобы все осталось цело. А остались от дома одни ворота, замкнутые на нетронутый замок…
Немного впереди — окопы, окопчики, ямы побольше. Оттуда доносятся сдержанные простуженные голоса трех-четырех бойцов. Через несколько шагов — лунка на одного. Нет-нет боец из такой лунки окликнет товарища:
— Как, Миша, жив еще?
— Жив! Мне еще долго живым надо быть. Слушай, а у тебя спичек нет? Палю, палю — ни одна не горит. Вот сырость-то…
Прислушиваюсь: знакомый голос. Луневич!
Ползу к нему. Залезаю в яму. Он нисколько не удивлен встрече. То ли еще на войне бывает! Закуриваем. Дым махорки сытный, преющий. Несколько затяжек молчим — и я и Луневич. А затем он с неожиданной страстностью обращается ко мне:
— Вот опишите, товарищ писатель, эту степь…
— Какую степь?
Сквозь туман проступают холмы, черный мокрый кустарник.
— Ну, поле, все равно! — Он упрямо, по-хозяйски, поводит головой, окидывая взглядом всю впереди лежащую местность. — Опишите! Потому что возьмем мы эти Луки — и забудем сегодняшний день. А нельзя! Надо, чтобы взял я газетку — хоть после войны, хоть когда уже стариком буду, — и сразу узнал бы: и землю эту рыжую, и как в валенках маялся (а кто в сапогах был — как тому в сапогах было плохо!), и чтобы ворота эти вспомнил, — всё! И чтобы сказал я тогда: «Правильно, знаю я эту местность, такой она и была…»
Он задумчиво и тепло смотрит на мятую бледно-зеленую травинку, которая, не веря негаданному счастью, вдруг показалась в декабре из-под стаявшего снега.
— Уж такую газетку не то чтобы искурить — в рамку вставлю!
А земля действительно рыжая. Ветер запорошил снег песком, снег осел и пожелтел. Как мы будем двигаться на штурм по этой каше? И как протянуть по ней орудия?
Но Луневич думает о другом. Он продолжает неспешно объяснять мне сущность моего писательского долга. Правда, излагает он эти мысли в извинительном тоне, словно и не утверждает ничего, а только спрашивает:
— Народ — он ведь и с писателя спросит. Верно? Ну, пусть, может, не мне доведется вспоминать про этот день — другому, все равно тот тоже захочет, чтобы все правильно было. Потому что если не так — стой! — никто уже не поверит. То есть тот не поверит, кто сам правду знает. Правильно я говорю?
— Думаю, да. Только меня, Луневич, сейчас другое интересует: как, по-вашему, возьмем город сразу?
— Кто знает… С ходу, наверно, не выйдет, он тут укрепился здорово. Но взять — возьмем. Потому что нельзя ж больше!
Из-под снега на пригорке пробилась первая струйка воды и осторожно, как гусеница, поползла вниз.
Светло-серые валенки Луневича, промокнув, побурели до половины голенищ, он сокрушенно смотрит на них.
— Ну и что же, что он тут укрепился? Когда всем народом подняться — разве кто устоит?
Глаза у Луневича ясные, юные и такие нежно-голубые, каким бывает только небо его Белоруссии в погожий день на рассвете. Но как они меняются, когда он глядит в сторону Великих Лук! Их даже трудно узнать — такими они становятся угрюмыми и холодными.
И я вдруг ясно понимаю, кого мне так напоминает Луневич. Оказывается, все время разговора я подсознательно думал именно об этом. Да Дьяконова же! Хотя, пожалуй, и не смогу объяснить — чем. У Дьяконова и глаза другие — насколько мне помнится, темно-карие, и лет ему значительно больше — наверно, уже тридцать пять, а роскошные черные усы — кажется, впервые в жизни отпущенные — делают его даже старше. Но несмотря на все эти различия, в Луневиче и Дьяконове чрезвычайно много общего: и во взгляде, и в манере разговора, и в посадке головы. А самое главное — я понял наконец! — в их спокойствии, точнее даже — в манере их спокойствия, если можно так выразиться.
Десятки тысяч таких глаз устремлены сейчас на Великие Луки. А враг не знает…
На дивизионном командном пункте приказа «Вперед!» ждут с таким же нетерпением, как на исходных. Снова и снова, словно не все еще проверено, накручивают по телефонам: «Ну, как у вас с „огурцами?“ А „правый брат“ где?» — хотя превосходно знают, что и «правый брат» на месте (речь идет о соседней части справа), и в «огурцах» недостатка нет (под огурцами разумеют снаряды).
А вода все упорнее подступает к оконцам штабного блиндажа. Оконца ниже уровня земли; в них виден только лоскут серого неба да ноздреватый пласт снега, из под которого сочится влага.
Туман, туман… Нет, не стоит больше ждать летной погоды. Если и дальше так пойдет, то ко времени, когда она установится, развезет все дороги. Что толку тогда даже в авиации?
Но, однако, отдать приказ о немедленном штурме не в воле штабистов. И потому, стараясь воздействовать на начальство обходными маневрами, они с подчеркнутой отчетливостью докладывают: «Огурцы» прибыли на место уже давно. Полностью. «Правый брат» также… — И с особенным нажимом заканчивают: — «„Правый брат“ запрашивает: каковы будут дальнейшие распоряжения?»
Впрочем, и не от командира дивизии зависит дать приказ: во-первых, не только он штурмует Великие Луки — это операция куда большего масштаба; а во-вторых, то, что здесь, на месте, представляется неоспоримым, наверху может еще вызвать всякого рода сомнения. Разве мыслимо учесть, оперируя масштабами только одной, дивизии, все соображения, определяющие решение вышестоящего командования? Недаром говорят: с горы виднее.
Терпение!
Обычно штабисты чем меньше знают, тем больше озабочены и стараются показать, что они все же знают что-то, только не вправе рассказывать. Но сегодня они откровенно признаются:
«Когда приказ, спрашиваешь? Ей-богу, не знаю. Жди каждую минуту. Могу тебе сказать: нами на очень высоком „верху“ интересуются… Даже Москва, по-моему, в курсе…»
После таких слов невольно бросишь взгляд на перегородку, из-за которой доносится негромкий гул разговора полковника Дьяконова с только что приехавшим большим начальником «сверху».
Неожиданно отчетливо слышна фраза Дьяконова: «Да, я ручаюсь вам». Он произнес ее особенно подчеркнуто. Затем пауза, короткая реплика приехавшего — слов не разобрать, но тон утвердительный. И наконец шум отодвигаемых стульев.
Когда же вслед за этим Дьяконов выходит в общую комнату, то, хотя он ничего еще не сказал, а в эту комнату входил сегодня уже не раз, все встают.
У Дьяконова покрасневшие от недосыпания веки и припухшее, утомленное лицо, но парадно привинчена Золотая Звезда Героя к гимнастерке и застегнут на оба крючка воротничок. Он говорит одному из штабистов: «Зайдите ко мне», говорит тихо и даже как будто буднично, но в глазах его такой огонек, который выдает все.
Нет, штабисты, конечно, не ошиблись: есть приказ, у них тонкий нюх на такие дела. Есть, есть!
Штурм был назначен на полдень, но еще в десять ударили орудия крупных калибров, за ними, будто догоняя, зачастили орудия меньших калибров, и с той же минуты из города поплыл такой нескончаемый гул, словно город перестал быть собой, а лишь колыхался в зыбком дыму тумана какой-то громадный, тоскливо стонущий соборный колокол.
То здесь, то там над — городскими кварталами взлетали круглые облака дыма; затем они трескались, как ядра, и из них выпрыгивало приплясывающее пламя. За туманом это пламя казалось пепельно-розовым, и, только когда занимался совсем уже поблизости легкий и сухой деревянный дом, из светящейся насквозь решетки остова с клетками — комнат, окон и дверей выбивался ослепительный огонь, и на него становилось больно смотреть.