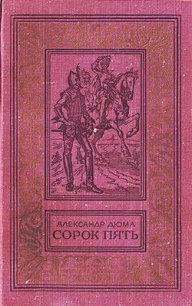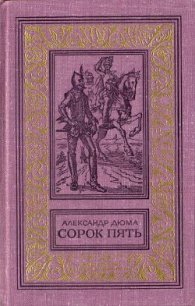Сорок дней, сорок ночей (Повесть) - Никаноркин Анатолий Игнатьевич (читать книги TXT) 📗
Из капонира выходят моряк и Наташа — связистка. Алексашкин кивает — заходите.
В капонире две комнаты. В первой — грубо сколоченный стол, сиденья из камня. Рация. В глубине второй виднеется железная койка. Оттуда выходит Нефедов, посасывает трубку.
— Садитесь, — басит, потирая ежик волос. Поворачивается к Пермякову: — Как дела с ранеными?
— Скопилось свыше ста пятидесяти человек.
— Точнее.
— Сто пятьдесят шесть.
— Как будем их выхаживать?
Пермяков молчит. Я думаю, что на этот вопрос и я бы сразу не ответил.
Нефедов говорит:
— Вы вначале были даже против строительства землянок и блиндажей.
Пермяков:
— Главная задача полкового медпункта все-таки эвакуация. Я думал…
Нефедов:
— В десанте нужно быть готовым к любым неожиданностям. На тетю не надейтесь. В батальонах бываете?
— Горелов отвечает за доставку раненых… Конохов…
— Старший врач должен сам знать, что делается в каждом батальоне, каждой роте.
Пермяков безропотно опускает голову. Мы с Колькой переглядываемся: вот достается старшему.
Нефедов хмурится:
— До меня дошло, морфий себе вводите? Человеческий облик теряете, не только медика… У людей перегрузка, а вы?
— Я болею…
— Сейчас не до хвороб. Или работать, или отправлю на Большую землю — там болейте…
Серо-землистое лицо Пермякова покрывается бурачными расплывчатыми пятнами. Нефедов подходит к столу, хлопает растопыренными пальцами.
— Вот так… Противник подтягивает сейчас подкрепление — будут сильные бои. Нужно к этому подготовиться. Земля людей спасет — побольше землянок, блиндажей, щелей, траншей, раненых надежно укрыть… Для земляных работ выделяю саперов… На три дня… Добро? Приду, проверю сам.
Затем Нефедов спокойно начинает расспрашивать нас, каких медикаментов не хватает, какие инструменты нужны, как дела с питанием раненых. Что-то быстро записывает в блокнот.
— Добро́… Все требования ваши передам по рации.
Покидаем капонир. Пермяков, виновато понурив голову, уходит вперед. Самое неприятное для него, что Нефедов все сказал ему в глаза, при нас. Думаю, Батя сделал это специально.
— Откуда Батя про морфий узнал? — говорю я.
— Копылова, Чувела могли сказать…
— Доносить все-таки паршиво…
— А, хватит тебе его защищать!
— Давай к Житняку заглянем, — предлагаю я.
Вчера вечером Конохов сказал мне, что у минометчиков есть раненый — пуля навылет пробила голову, «а он ходит как ни в чем не бывало».
Перевалив через небольшую сопку, вылезаем на дорогу. На спуске натыкаемся на разбитый склеп. Наверно, похоронен помещик Гурьев. Подальше, за дамбой, виднеется кладбище — замшелые каменные кресты и плиты. Под кручей, где дамба делает поворот, прилепился домик. Огорожен забором из ракушечника. Ребята хоронят бойца-армянина.
— В бомбежку вчера убило, — говорит знакомый, с острым птичьим носиком, Лопата. — Схоронили Артушку, а сегодня снарядом могилу разворотило и выбросило…
Лопата роет яму на пару со смуглым черноволосым пареньком.
— Дружок его, — кивает Лопата.
Спрашиваю, где солдат, раненный в голову.
— Санька? Спит.
Ребята во дворе углубляют колодец — ведрами вытаскивают землю. У сарая возятся с минами — выравнивают стабилизаторы. Мины эти сброшены на парашютах — стабилизаторы из жести, гнутся.
Раненый в блиндаже, который вырыт под домом. Храпит, закутанный в парашютный шелк. Будим. Вид нормальный.
— Как это тебя?
— Шальная прострелила…
Действительно, ранение сквозное. Прямо не верится — пуля прошла чуть выше височной кости — два черных пятнышка запекшейся крови… Как остался жив?
— Болит голова?
— Глаз печет… И спать охота. Сплю, как пожарник.
— В медсанбат тебя нужно забрать.
— Это поговорите с лейтенантом… Чего мне там делать?
Могилу засыпали. На холмике остался, сидит смуглый парень. Шапкой трет глаза. Как раз появляется Житняк. Грязный, в бороде комочки глины.
— Хватит убиваться, Ингуян…
— Жалко, Яков Яковлевич.
— Жалеть надо живого. А теперь что? Был хороший парень — и нет… Идем!
Житняк поворачивается к нам.
— Чего пришли, помощнички смерти? У нас все, как гвоздь.
— А в голову раненный? В медсанбат надо отправить.
— Ладно, покалякаем… Я сейчас пулемет фрицевский обнаружил и блиндаж новый…
К Житняку подходит высоченный парень.
— Шуганем, Яков Яковлевич?
У забора вырыты четыре ячейки. Житняк прыгает в крайнюю, за ним Ингуян. Длинный парень в соседней ячейке. Житняк делает наводку. Ингуян — заряжающий. Рявкнули отрывисто минометы. С воем полетели мины и разорвались где-то за высоткой.
— Давай еще беглым! — кричит Житняк длинному парню.
«Тьеф-тьеф» — часто залаял миномет.
— Сматывайтесь в блиндаж, вниз! — орет нам Житняк.
Удираем в его блиндаж. Через минуту заходит сам хозяин.
— Сейчас фриц начнет долбать, — говорит он, сбрасывая с себя безрукавку. Садится, пропускает через кулак бороду, выбирает катышки глины.
Немец открывает огонь. Бьет сильно, но во двор не попадает.
— Керченской селедкой малосольной могу угостить — сказка венского леса! Спирт есть… И борщ…
Минометчики получают продукты сухим пайком и готовят сами. Есть в сарае кухонька. Вообще, у них все продумано, сделано добротно. В колодце, он без воды, устроили бомбоубежище. Минометы хорошо укрыты бурьяном. Блиндажи крепкие, траншеи через весь двор. И бойцы все подтянуты. В домике пианино: «Культурно живем!»
Пьем спирт, закусываем селедкой.
— Это мы сегодня на огороде бочонок с селедкой откопали… И сундук с барахлом. В сундуке посуда, костюм, сапоги, исподнее белье. Мы бельишко взяли, а остальное опять закопали. Я в сундуке записку оставил: «Извини, хозяин, что взяли белье и селедку».
В блиндаж забегает боец — он с наблюдательного пункта.
— Копец пулемету и тем, кто блиндаж строил, — докладывает он.
— Если бы у нас минометов больше было, чтоб рискнуть, я бы кочующим способом в десять раз больше фрицев перебил, — говорит Шитняк.
— Что это за «кочующий»? Сам придумал? — спрашивает Колька.
— Нет, капитан Устинов. Ты его еще застал?
— Застал. На Бугазской косе.
— Так вот он-то меня и научил. Сидишь в обороне. Лазишь-лазишь по передку, выискиваешь, где немец группируется, потом подтянешь миномет, фуганешь — и тикать вместе с минометом на свою позицию. Хороший капитан был… но чудной: баб ужас как стеснялся. Не курил и не пил.
Хлопнув себя по колену, Житняк затягивает натужным голосом:
Покарябанный лоб его становился багровым. Ромбики глаз суживаются.
— Слушай, чего тебя все величают Яковом Яковлевичем? — спрашивает Колька. — Особое уважение?
— Так я на глазах у ребят дошел от рядового до офицера. Ветеран бригады…
Я слышал, что он был в штрафной роте, спрашиваю, действительно ли?
— Брехня… Тогда еще и штрафных не было. А вот семь лет получил — жизнь дала трещину. В сорок втором… Был я тогда в звании старшего сержанта. А стояли на Миусе. Долго там толклись. Особо паршиво к весне: грязь жуткая, жратву не подвезешь, подвода в грязи тонула. Старшина раз привез в роту одной соли. Второй раз подсолнечного масла по пять граммов, капусты соленой по двадцать пять граммов на брата. Как в аптеке! Когда отошли, выдали нам за десять дней табак, сахар и водку. Газанули на радостях, и вдруг — на марш. Ночью шагали. И в степу остановились. Заснул как убитый. Встал, нет карабина. Стянули или потерял? Водка с голодухи в голову стукнула. Пошел по степу, все обыскал — нет. Политрук Пузанов поднял хай. Комроты, лейтенант Бугаев, ему говорит: «Чего шум поднимаешь?» А Пузанов: «Будем судить». Отдали под суд. Следователь знакомый — старший лейтенант (он когда-то был у меня наводчиком) говорит: «Я тебя не посажу, не убежишь?» — «А куда тикать? К немцу?»