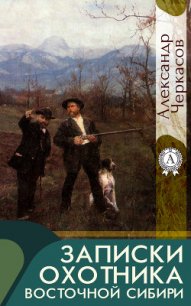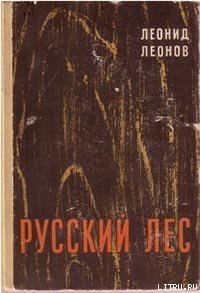Семейщина - Чернев Илья (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Оттого и загрустил Панфил Созонтыч, — скука, а не жизнь. В лавке — пустошь, по хозяйству — работники наемные.
Не те дела обозначились и у Елизара Константиныча. Правда, у Елизара, крыша волнистым серебром на солнце пышет, что твой жар-цвет сказочный. Правда, он в богачестве Панфила куда как переплюнет: уж если Панфил Созонтыч патриарх, то Елизар Константиныч — превыше патриарха, и названья ему придумать немыслимо. Однако и от Елизара отступился народ: заполонили, завлекли никольцев заводские роскошные магазины, — не здешним чета.
— Отбил народ зловредный Моська Кельман, приучил мужиков за всякой пустячиной в Завод наезжать, — сокрушались богатеи.
5
А тут будто назло в Никольском новый купец объявился — Николай Александрович Бутырин. И не семейский вовсе, а из города, ученый, сыновья в инженерах ходят. Был, по слухам, Бутырин сидельцем монополии, да еще казенный спиртовой склад оберегал, но возьми да и спали тот склад вплоть до головешки. Сколько погорело добра — кто скажет? А Бутырин спирт-то в хвои амбары загодя припрятал. Вот и пошел человек в гору… Двадцать домов у него в городе, магазины свои, мельницы, кирпичные сараи. С самим Потемкиным тягаться под стать. И тягался!
Лысый череп в венчике белых, как вата, волос, глаза пронзительные, хитрющие, так и едят тебя, рост высоченный, рубаха всегда без пояса, — Толстой, право Толстой! Сильно смахивает, даже борода такая, толстовская. Никольцы, в Завод наезжая, в лавках тыкали пальцами в лубочные портреты Льва Николаевича:
— Часом, не наш ли Николай Александрович?
Какой ветер сорвал из города этого человека с обличьем великого писателя и прибил его к тихим тугнуйским берегам? То ли учуял через людскую болтовню скорое себе возмездие за поджог и почел за благо с глаз завистливых скрыться до времени, то ли еще что, — чужая душа потемки. Никольцы склонялись к тому, что Бутырин действительно скрывается: в настороженности взглядов и жестов, в том, как он взвешивал каждое свое слово, угадывалась смертельная тревога бывшего сидельца монопольки. Болезненная подозрительность выдавала в Бутырине человека, страдающего зачатками мании преследования. О недуге таком семейщина, конечно, и не слыхивала, меж собою судачила:
— Лихоманка его трясет, не иначе.
— Лихоманка пристала, верное слово… Пужаный, видать.
Бутырин отстроил на Краснояре двухэтажный дом с террасками, поставил во дворе крепкие амбары с пудовыми замками, ворота навесил из толстых дубовых досок, — калитка с железным засовом, — цепных злющих псов во дворе по проволокам пустил, днем псы гремели проволокой, бегали на привязях вдоль нее, ночами, спущенные, рыскали по двору, у ворот, у амбаров… Не подступишься!
По вечерам двухэтажный дом за крепкими ставнями в паутине железных закладок выглядел дородно и застегнуто…
И чем ведь подманил к себе мужика, а пуще бабу Николай Александрович, — не сходной ценой, не добротностью товара, а причудливым разнообразием выбора: золотистые и белые праздничные дутики и обыденные монисты, полотенца шитые, атласы и кашемирики, пестрое многоцветье тканей, железо, ведра, чайники, гвозди, посуда и крупы разные, ичиги, деготь колесный, мед, леденцы, орех мелкий, семечки и сера жевательная, до чего охочи бабы и девки, и стар и мал. Чего-чего нет в бутыринской лавке, — настоящий, понимающий купец! Елизару с Бутыриным не тягаться — скудно у Елизара в сравнении с Бутыриным: то гвоздя не найдешь, то веревки, то надобной девке ленты шелковой.
Даже бурят к себе перетянул Николай Александрович. Наезжали к нему с Тугнуя улусные жители в островерхих шапках-малахаях за деревянными лакированными чашками, узкогорлыми медными кувшинами, медными пуговками-шишечками, синей и желтой далембой и дабой(Далемба, даба — китайские ткани), за зеленым монгольским чаем. Где что и брал, откуда о нуждах братских узнавал он, — дивились никольцы.
И повезли Николаю Александровичу из улусов шерсть и сбитое масло, братчёхи — шубы котячьи, братского фасона; семейские бабы потащили в подолах яйца, нагулянное в засадках свиное сало… Завертелось у Бутырина колесо.
Захожего человека в лавке чаще всего встречал сам, а когда набегал народ, — шаром из внутренних комнат выкатывалась низкорослая толстуха Бутыриха, выскакивали две ее дочери: одна крепко сбитая, мордастая, на разговор чудная, толстоязыкая, лопочет — не поймешь; другая — щуплая, по лицу веснянки-крапинки, тараторка острая.
Ряду держал больше сам. Глаза пронзительные в мужика вперит, глуховатым баском, без шума, без крика, покупателя охаживает.
Зря слова Николай Александрович не кинет, лишнего звука у него не добудешь — ровно словами дорожится. Серьезный купец, ни в жизнь не ухмыльнется даже, точно маска на нем надета.
Сколько бы народу дальнего ни наезжало в лавку, никого, — проси не проси, — Николай Александрович ночевать у себя не оставит. Попросится, бывало, какой братский во дворе на ночь приткнуться, — откажет непременно. Вскоре раскумекали мужики: худого человека боится Бутырин, зарезанным, ограбленным быть остерегается пуще всего. И еще: жаль для чужого коня сена клок… Примечать стали никольцы: жаден старик, лишнюю горсть орехов на весы не бросит, лишнего леденца или куска: серы в запан бабе не положит.
Со временем никольцы достоверно узнали: бежал Николай Александрович от городского разора, кинул кирпичные сараи и магазины на сыновей, дома рассовал зятьям. Пощипали, видать, купчишки Николая Александровича, а тут еще беда настигла: старое дело о складе всплывать начало.
Пощипан, да не кончен человек. Ой, не кончен, — многие тысячи в кубышку запрятал!.. И об этом никольцы в конце концов проведали.
Досада Елизара Константиныча на Бутырина, гостя непрошеного, была велика. В самом деле, давно ли он, Елизар, всю округу в ежовых рукавицах держал, на свои пузатые амбары робить заставлял? А приперся этот… и схлынуло счастье!
— Добро бы свой судьбу перебил. А то ведь кто: никонианец, семейской вере постылец и чужак! — лютовал Елизар Константиныч против еретика, от которого всевышний беспременно отступится в решительный и неизбежный час.
Теребя рыжий разлет бороды, Елизар Константиныч становился вечерами в горнице на колени и жадно испрашивал у бога всяческого худа, погибели для лысого городского выродка.
«Что он… кто он? Не сеет, не пашет, мозолей за сохой не набивает. Огород, две коровы да конь с бричкой — все его крестьянство… прости господи! — ища оправдания перед богом своей ненависти, думал он во время молитвы. — Вот спалим… прости мою душу!»
Отсветы будущего беспощадного огня, занявшегося посередь бутыринского двора, казалось, отражались в белесых глазах Елизара Константиныча.
В эти минуты спокойнее становилось его натруженное сердце.
Как-то душным августовским вечером, спустив с цепи псов, Николай Александрович обходил, по обыкновению, задние дворы и службы; заглядывал в каждый затененный уголок меж амбарами и кладовыми. В вечернем воздухе по деревне, от двора к двору, стлался надсадный собачий брех… Темно вокруг: рано укладывается спать семейщина, летом вовсе не вздувает огня.
От заплота к высокой стене двухэтажного главного амбара мелькнула тень, качнулась… скользнула вверх по крутой наружной лестнице.
Стараясь не стучать железной палкой, с которой в обходе он никогда не расставался, Николай Александрович по затенью шмыгнул в дом и вышел оттуда с централкой. С терраски он подслеповато уставился в смутное очертанье лестницы, обшарил взглядом верхнюю площадку, — темно, не видать, хотя во всех окнах дома, по его приказанию, и вспыхнул яркий свет.
Постоял-постоял Николай Александрович на терраске, подивился, как это не учуяли чужого собаки, вернулся на минуту в комнаты, кликнул старшую дочь и показал ей на лестницу: