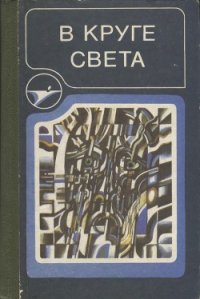Военные рассказы и очерки - Иванов Всеволод (книги бесплатно без TXT) 📗
С ловкостью, свойственной удачливым и счастливым людям, капитан Елисеев поставил свой танк на холмик, возле опушки. Гусеницы чавкнули последний раз, и, вытирая руки тряпкой, с маслянистым, сияющим довольством лицом в люке танка показался сам капитан. Разумеется, так же, как и Марк, он почти не спал эти ночи, но какая разница в выражении лица! Марк, хотя внутренне и чувствовал себя превосходно, внешне казался угнетенным. Капитан Елисеев? Разве подумаешь: ну. подгулял немного! По-прежнему волосы капитана цвета спелой пшеницы, нежна кожа на длинной шее, даже грубый ворот кожаной потрескавшейся куртки похож на дивный ожерелок из каких-то приятных рыженьких камешков.
По-прежнему капитану нравится шептать вам на ухо, обдавая ваш затылок теплым дыханием. Слова его, включая и самые обыкновенные, вроде «задание», придают вещам и поступкам удивительную волшебную силу. Второй раз видел его Марк, а как стал близок этот человек!
— Есть на моем сердце твоя отметка, — шепчет он на ухо Марку, — по такому случаю и заехал. Надо поговорить. Увидимся ли еще — не знаю.
— Предчувствие есть?
— Почему так: предчувствие? Предчувствие — это когда угорит человек от нужды. Другое, друг, другое! Ливень крови вижу — так бьемся. А какой рекой плыть, ту и воду пить.
Слова у него прихотливо плещутся. В юности он был пильщиком, и есть в его словах что-то от прежнего рукомесла: опьяненно свистит пила, сыплются розовые, пахнущие сыростью и смолой опилки, рубаха вздувается от движения…
— Стало быть, другое?
— Другое. Сердце! Про тебя тут, перед приездом, промелькнула напраслина. Дескать, профессорских сынков знаем: дурье сплошь. Ха-ха! Я да еще Настасьюшка в тебя верили. Что? После приезда? Нет, после приезда твоего я с ней не говорил о тебе. Молчали. Да и зачем жевать вслух! Но перед самим собой мигать не хочу! Хованский прав и Бондарин прав: любит она тебя. И ты ее, вижу, любишь! Москва, сказывают, с одной спички сгорела. Так что же нам чмурить над людьми, издеваться: не бывает любви с одного взгляда! Бывает?
Бывает пламя? Сжигает?
— Сережа!
— А?
— Взгляни на меня.
— Гляжу!
— Похож я на того, каким вы меня вылепили?
— Ты почему так: не годен? Чем? Что ты скрываешься?
— Шарю день и ночь в себе и не нашарю. Чего мне тебя, Сережа, морочить, да и зачем себя портить разговором?..
Он хотел объяснить ему все думы, которые накопились в нем о Настеньке. Достаточно его ткнуть, еле-еле уколоть, как он уже поймет тебя. С ним можно… И тотчас же пришло в голову: «С ним-то более чем с кем-либо нельзя! Уж кто-кто, а Елисеев не поймет. „Какое право, — спросит он, — имеешь ты говорить о ней плохо, сухо, низко? В каком гадком деле ты ее видел? Слово дурное ты о ней слыхал?“».
— Марк! Ты опять молчишь? Мне, друг, костылять некогда, мне надо на новые позиции спешить. Я урвал десять минут. Говори, Марк. Не хочешь ты меня морочить? Понимаю! А в чем? Да не мешкай, друг! Говори. Жду.
Марк сказал:
— Не хочу кричать на всю округу во время боя!
Неожиданно словам этим капитан Елисеев придал большое значение — истолковав их, разумеется, по-своему.
Он сказал:
— Спасибо, друг. У смерти коса низко ходит, укос травы будет большой. Но про меня не думай, что я, как трава, попаду под ту косу! Нет! Я бы к тебе тогда никак не заехал. Я уязвлен, но не заколот. И уязвленный — пойми… — я могу за твое счастье радоваться.
«Ну, что он пристал ко мне с этим счастьем?» — подумал в горечи Марк. Вслух же сказал:
— А как положение на Бородинском?
— На Бородинском? В порядке. Я к тебе почему заехал? — зашептал он опять на ухо. — Почему за тебя радовался? Только потому, что ты хороший? Э-э! Мало ль их, хороших. Я, друг, не так ограничен умом. Нет! А потому, что ты бился лихо! И лихо мне помог на левом фланге! Вот ловко, думаю, от отца — машина, от сына — снаряды. Ух, не отвертеться немцу!
— Совсем не такой я хороший, Сережа.
Капитан выхватил планшетку, развернул карту поля и, тыча сломанным карандашом в испачканный маслом лист, сказал:
— Вот. Иду на правый фланг! Приказ.
— Да ведь левый-то важнее?
— Перебрасывают. Приказ. Не обсуждаю. На правый так на правый… Иду. Возле — как его? — музея встречаю машины. Медсанбат Бондарина продвигается к правому флангу. Э! Значит, быть там всему пылу. Настасьюшку вижу. Два — три слова. Из них — половина о тебе. Тогда, думаю, свиньей мне быть — не заехать, не сказать? Миновало меня счастье, а что поделаешь? Тысячи могут стоять в пространстве. Но в том же пространстве троим тесно. И весь разговор!
— И все-таки на правый — лишнее.
— Приказ.
— Приказ?
— Приказ, выполненный на «отлично», — победа. Вот и весь разговор. Будет тебе приказ — бить по правому флангу, — ты меня поддержи.
Марк вспомнил множество толстых книг о стратегии и прочем и увидал, что точкой опоры теперешнего маневра немцев является бесповоротная решимость завершить маневр атакой, сокрушающей русских на левом их фланге. А мы в это время отдаем распоряжение отвести войска на правый фланг?! Марк привел из книг много примеров. Капитан слушал, моргал глазами и думал о своем: о Настасьюшке. Удивительный человек! Бой у него должен быть в голове, а он — Настасьюшка! И, чтобы отвлечь его от глупых дум, Марк сказал:
— Что же касается нашего разговора о Настасьюшке, то — ни я ее не люблю, ни она меня, да и не встретимся мы с нею больше. Так сложилась обстановка.
Капитан Елисеев протянул вперед руки, будто думая благодарно обнять Марка, но только хлопнул в ладоши и сконфузился от этого мальчишеского жеста. Чтобы скрыть свою радость, он сделал вид, что очень серьезно думает о стратегических расчетах Марка. Он сказал:
— Ты предполагаешь: немцы обеспечивают внезапный удар на левом фланге и мы тоже маневрируем? Допустим. Но зачем же тогда перебрасывать на правый фланг медсанбат Бондарина? А ты знаешь, он опять открытие осуществляет! Буду, говорит, на поле сражения его проверять… И-и, батюшки-светы, Волга-река, времени-то сколько, а мне надо в ноль-ноль…
Он прыгнул в люк и оттуда крикнул:
— Великая у тебя душа, Марк Иваныч. Вся в отца! Ы-ых, Волга-река, и покрошу я нонче врага в твою честь!..
Танк щеголевато встал на дыбы, боднулся и, прокладывая переулок в кустарнике, пошел напрямки на правый фланг, чтобы, развернувшись, с ходу атаковать немцев. Елисеев думал: «Есть еще по дороге родничок, напьемся студеной…» Он остановился у родничка и зачерпнул котелком водицы, студеность которой отдавалась в висках.
В те минуты подполковник Хованский думал о Марке. Только что был получен приказ, подтверждающий приказание, отданное полчаса назад: направить все силы к правому флангу и во что бы то ни стало отбить фланговую атаку противника, а затем самим перейти в атаку, дабы немцы откатились к Дорохову, где их ждут… О том, что немцев ждут у Дорохова уничтожающие русские силы, подполковник только предполагал, но иначе и быть не могло.
Подполковник вспомнил Марка Карьина и его третью батарею, действующую превосходно и, само собой, явно гордящуюся своей превосходной работой. Он сел в автомобиль и приказал везти себя на третью.
Было это около двух часов пополудни.
Тогда же на третьей батарее ранило Михася Ружого и насмерть зашибло осколком мины наводчика Стремушкина, тощего настолько, что все в нем казалось упрощенным донельзя. Зашибло его тоже пустяковым осколком, не крупнее горошины, словно для того, чтобы показать, что смерть и таким делом не гнушается.
Перед смертью Стремушкин, широко раскрыв рот, кричал навзрыд:
— Сестрица-а, сестрица, ох, больно мне, больно-о!..
Минутами сознание приходило к нему. Он глядел на Марка, на приятеля своего Воропаева, губы его не двигались, а взгляд говорил: «Простите, товарищи, много в запас было приготовлено терпенья. Вот не хватает!» И, закрыв бесцветные глаза, он изгибался, выпячивая тощую плотничью грудь. Болтались на материи полуоторванные пуговицы гимнастерки, выпачканные кровью.