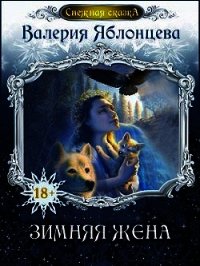Три ялтинских зимы (Повесть) - Славич Станислав Кононович (лучшие бесплатные книги txt) 📗
Пошарив наверху, жандармы заглянули в несколько квартир. Не минули и квартиру Гузенко. Нашли радиодетали, которые лежали прямо в кухонном столе. Это был напряженный момент («Встать! Быстро! Руки вверх!»), но Гузенко держался уверенно: накануне они с радиотехником Абдулой подрядились на халтуру — обещали собрать приемник одному офицеру.
— Это не мое — я только мастер, выполняю заказ. Можете проверить. Я и не прятал, у меня и электричества нет, включить приемник невозможно…
То была и правда и неправда, но немец заказ подтвердил, и жандармы, пометив что-то у себя, отпустили Гузенко.
Однако задуматься было над чем. В доме этот внезапный налет вызвал разные толки. Соседи говорили о каком-то инструменте, будто бы украденном из находившегося неподалеку гаража, у жены Татьяны Андреевны подозрение вызывали монтеры, возившиеся накануне на чердаке с ремонтом радиопроводки (по приказу комендатуры городская трансляционная сеть была восстановлена, чтобы жители ежедневно могли слушать победные сводки «из главной квартиры фюрера»), — может, эти монтеры заметили шрифт и донесли? Но сам Гузенко опасался худшего: не попал ли он на заметку? И потом стало ясно — эта квартира им тоже не подходит.
Весной сорок второго удалось перебраться в пустующий дом по Симферопольскому шоссе. Все это было еще до знакомства с Казанцевым.
Со стороны выбор мог показаться странным и даже опасным: по соседству находилась немецкая рота пропаганды, а чуть ниже по шоссе — мрачное здание зондеркоманды и СД. Кругом посты, патрули, шлагбаумы, колючая проволока. Но Гузенко хладнокровно рассудил, что такая близость ему не помеха, и не ошибся. В дальнейшем он даже изловчился подсоединиться к электросети этой роты пропаганды, что дало возможность, когда появился собственный приемник, слушать его дома.
Новое жилье привлекало тем, что позади был заброшенный парк и неподалеку — принадлежавший некогда графу Мордвинову дворец, в подвале которого он прятал теперь, свой шрифт.
Постепенно Гузенко обзаводился всем необходимым — появились станок-рама (сейчас он вместе со шрифтом находится в Ялтинском краеведческом музее), валик. Попробовал печатать сам — не получалось. С набором кое-как справился, а печать не шла, нужна была специальная краска. Чернила только пачкали бумагу.
Утром Татьяна Андреевна листок с записанной накануне московской сводкой заворачивала в ленту и вплетала в косу. Брала корзину и отправлялась на базар. А по дороге заходила к бывшим соседям и добрым приятелям — Алексеевым. От них этот листочек шел дальше. Несколько раз приглашали надежных людей к себе. Слушали Москву.
Это было потрясающе — видеть, как менялись люди от двух таких простых слов: «Говорит Москва…» Это не с чем было даже сравнить.
Собирались не все сразу. Шли ближним путем — из Дерекоя через речку, потом садами, вверх и тропкой через старый Мордвиновский парк.
Для отвода глаз накрывали чем бог послал стол; старшая дочь Ольга и мать Татьяны Андреевны выходили во двор сторожить, и, наконец, начиналось главное.
«Говорит Москва…» В сообщениях было мало радостного — бои шли в глубине страны. Но важно было то, что Москва говорит, живет, ведет передачи, что голос ее тверд и строг.
Устроив несколько таких прослушиваний, Гузенко вскоре из конспирации отказался от них, Но ему самому эти сеансы дали не меньше, чем его гостям. Он еще раз почувствовал, какая мощь заключена в слове.
Через дорогу высилась стена. О происходящем за стеной в городе ходили страшные слухи, но Гузенко и без того все знал доподлинно. Знал, что ждет их всех в случае провала, сам, случалось, видел, как вели людей на допросы и волокли еле живых в подвал после допросов, слышал и на всю жизнь запомнил разговоры — обыденные, деловые, полные практических советов разговоры палачей и их подручных…
«…Никитенко немцы называли „Ника“. Работал он шофером-механиком гаража…
Немцы готовили наступление на Кубань и на Севастополь. Каждый готовился по-своему — в гараж Ники прибыли новые шоферы: Подобедов Всеволод, какой-то Мюллер и еще кое-кто. Всех их Ника посадил на машины, и перед поездкой всегда были дискуссии за очередность поездки. В споре Подобедов обижался на несправедливость, что Мюллер каждый раз ездит и навозил себе хорошего барахла, что и другие тоже прибарахлились, а он, Подобедов, якобы „в замазке“.
На обиды Ника отвечал, что нужно и самому не ловить ворон: бери карабин и действуй сам, если хочешь хороших вещей. Я было еду в кабине, говорил он, с карабином, привожу на свалку и смотрю, на ком приличного материала костюм или пальто. Тогда я прошу у переводчика Белгова дать мне его. Он никогда не откажет. Тогда я заставляю его раздеться, а, если не подчиняется, то тогда целюсь в голову, чтобы не портить костюм. И тут же, пока горячее тело, легко вытряхнуть. Когда-то в Херсоне, говорил Ника, я был дурачком: отвезу, их постреляют, а потом, через пару часов, приезжаю, чтобы снять, так или опоздаю, или, хоть и не опоздал, то приходится возиться. Хоть разрезай! Задубеют, как деревянные. Эх! Здесь уж нет делов. Вот в Севастополе, там можно будет нажиться…»
Видеть и слышать такое приходилось не раз, и это, как ни странно, тоже прибавляло сил, выдержки, потому что снова напоминало: выбора нет, надо победить. Иначе — смерть не только тебе, но и всем еще не родившимся людям, младенцы не поднимутся с четверенек, а взрослые опустятся на четыре конечности и будут выть…
ГЛАВА 12
Еще один персонаж…
Мы с ним на «ты», и я зову его просто Аликом. Известный в наших местах рыбак. Знакомы мы уже лет, пожалуй, двадцать. Приходилось с ним бывать и у болгарских, и у турецких берегов. Живем рядом, время от времени встречаемся, проявляем вежливый интерес друг к другу, благо у каждого все в общем-то в порядке. Увидев его сейнер у причала, я всегда оживляюсь: а где Алик?
Удачливый рыбак, и, что в нем нравится, удачливость эта не зависит полностью, как иногда бывает, от «фарта», везения. С процентами и центнерами у него, по-моему, все благополучно даже в самые безрыбные годы.
Рыбак по призванию, не случайный на море человек — в этом и суть.
Мать его Анна Тимофеевна желала бы, как мне кажется, сыну другой, более «интеллигентной» судьбы, но он, выросший здесь, у массандровской, рыбацкой искони слободки, как пришел пацаном на берег, так и прикипел к морю. По-настоящему, ради харчей, чтобы прокормиться, надел робу, начал рыбачить еще мальчишкой в 1941 году. Вот в связи с этим я и вспомнил о нем. Нашел в своих бумагах пометку: «Надо поговорить с Аликом — он знал Казанцева. А Левшина — ведь мать Алика!»
Здесь надо кое-что объяснить. Еще в начале нашего знакомства Алик говаривал, что его семья — он сам мальчишкой и его мама Анна Тимофеевна Левшина — участвовала в ялтинском подполье. Тогда я пропустил это мимо ушей, а зря — еще можно было поговорить и с Казанцевым, которого они близко знали, и с Гузенко, и с его женой Поляковой, и с многими другими; тогда еще относительно свежи были впечатления, помнились многие детали. Сейчас факты и подробности приходится собирать по крупицам.
…Казанцев пришел в Ялту, потому что здесь жили родственники жены. Тут он мог рассчитывать на помощь и, видимо, надеялся узнать о судьбе своей семьи. Жена с детьми, как оказалось, успела эвакуироваться…
Гноилась раненая нога, давала знать о себе контузия, одежда превратилась в лохмотья, а на дворе стояла хоть и крымская, но все-таки зима. В том году она и в наших южных краях выдалась жестокой.
Почему не пошел в лес к партизанам? Этот вопрос не раз потом задавали, отголоски порой слышатся и сейчас. Я не слышал и не читал ответа, но вполне его представляю: а кому он такой был там нужен? Как встретили бы странного типа без документов, именующего себя майором Красной Армии? Не, углядели ли бы в нем вражеского лазутчика?
Я задержался на одном вопросе, чтобы сознательно опустить множество других, возникавших вслед и вместе с ним. В охотниках задавать вопросы недостатка у нас, как известно, никогда не было. Но я не хочу сейчас заниматься оправданием своих героев. Хватит того, что они сами занимались этим после войны почти все время.