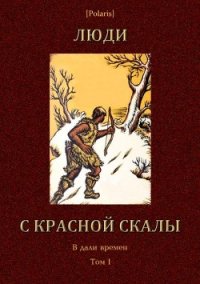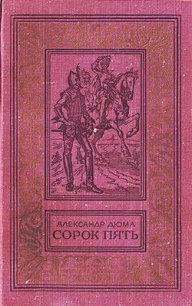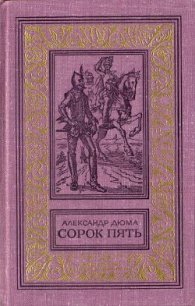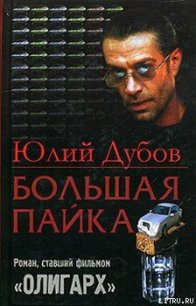Море бьется о скалы (Роман) - Дворцов Николай Григорьевич (читать книги полностью .txt) 📗
На пороге появился Иван.
— Кранки? [28] — он ухмыльнулся, но тут же посерьезнел. — Колы нимцы прийдуть, щоб не вертухаться! Чуетэ?
— Чуемо, — Васек пытался подладиться под украинский говор санитара.
— Щоб пластом лежаты. У вас высока тэмпература, мабуть, тиф.
Кивками головы Степан и Василий еще раз подтвердили, что все будет в точности исполнено.
Санитар провел их в комнату напротив. Она, кажется, ничем не отличалась от той, в которой они жили. Справа и слева — тройные нары, матрацы с жесткими, будто из проволоки, наволочками. На матрацах — укрытые шинелями больные. Никто из них не ворохнулся, не поднял головы.
— Наверх! — скомандовал санитар.
Уже там, под потолком, Васек заметил, что комната не протекает. Это обрадовало. Он сказал:
— Хоть обсохнем немного.
Они съели пайки хлеба и легли, прислушиваясь к тому, что происходит во дворе. Там шло построение. Слышались крики и брань. Выделялся звонкий голос Антона. Затем все стихло. Очевидно, колонна ушла. До темна ребята будут ворочать камни. И все это мучительно долгое время над ними будут издеваться дождь и ветер, полицаи и мастера.
В коридоре послышался топот и немецкий говор.
— Арцт!
Дверь распахнулась. В комнату вошли боцман с опухшим от перепоя лицом, унтер и врач в белом халате и неизменных очках с одним стеклом.
— Сколько? — спросил унтер.
— Девятнадцать, — сказал Садовников.
Унтер заглянул в записную книжку, которую до этого держал в рукаве.
— Правильно. Все здесь?
— Можете посчитать.
Унтер насчитал семнадцать.
— Двое вон наверху, в изоляторе, так сказать. Подозрение на брюшной тиф.
— Что?! — унтер оглянулся на дверь.
— Ничего удивительного, господин унтер-офицер. Вши. Бани нет.
Унтер вскипел.
— Альте лид! [29] Сколько можно твердить одно и то же?
Боцман, не понимая разговора, смотрел на Садовникова мутными глазами.
— Арцт!
Садовников молча повернулся к боцману. Тот погрозил перед самым носом врача похожим на детский указательным пальчиком.
— Я вызову нашего, немецкого, врача. И если хоть один из этих больных окажется не больным, тебе придется не сладко. Пойдешь в яму, камень таскать! Понял, врач?
Садовников перевел спокойный взгляд с боцмана на унтера.
— Я понял, но ответить по-немецки не могу. Плохо говорю. Здесь нет и не бывает здоровых. За это готов всегда ответить.
Унтер передал его ответ боцману, а от себя добавил:
— Сомневаюсь… Врет он…
— А вот узнаем! — боцман вышел из комнаты. За ним поспешил унтер.
Васек вскоре заснул, а Степан лежал на боку с открытыми глазами. Он слышал, как вернулась ночная смена. Степан не видел пришедших, но знал: они промокли до последней нитки, застыли так, как только можно застыть, оставаясь живым. Сейчас они съедят свои жалкие пайки и лягут на хлюпающие водой матрацы. Прижимаясь друг к другу, они тщетно будут стараться согреться. Эх, жизнь проклятая! Кончишься ли ты когда?
Вошли врач и санитар.
— Обход. Кинчай ночеваты! — пошутил санитар.
Первым от дверей на нижних нарах находился невысокий и, несмотря на худобу, широкий в плечах пленный Семен Мухин. Впрочем, его имени почти никто не знал. Семен был до того черен, что, казалось, его волосы, сухощавое лицо и все тело натерты сажей. И поэтому Семена звали Цыганом. Эта кличка сама напрашивалась при первом взгляде на него.
Семен в лагере меньше полмесяца. До этого он, его земляк Аркашка и еще трое пленных работали в авиационной части. Как они рассказывают, жилось им там куда вольготней здешнего: под дождем не мокли, камней не ворочали, а ели порой почти досыта. Но авиационную часть отправили на Восточный фронт, а пятерых русских сюда, в яму. «Охота была тащить нас чуть не за двести километров! — возмущается до сих пор Цыган. — Захватили бы заодно в Россию».
Уже на второй день новички пошли в колонне на общие работы. Избежал этой участи только Аркашка, земляк Цыгана. Его оставили в лагере. А когда колонна вернулась, Аркашки уже не было. Оказывается, унтер взял его к себе в денщики. В чем дело? За что такая милость? По лагерю пополз зловещий слушок — Аркашка предатель, выдал командира партизанского отряда. Цыган, когда его спрашивали об этом, мялся: «Кто его знает… Я в армии был, а он дома… Может, за наградой погнался»…
Аркашка живет в немецком блоке, но земляка навещает почти каждый день. Стоит ему появиться в комнате, как всякий разговор постепенно стихает. Косые ненавидящие взгляды колют, точно булавки, и оттого розовое, еще не знавшее бритвы лицо Аркашки очень скоро становится пунцовым. Он начинает нахально ухмыляться, говорит нарочито развязным тоном.
Аркашка старается не задерживаться в комнате.
Пригласив земляка во двор, он нетерпеливо спрашивает:
— Опять пусто?
— Пошел ты к черту? У тебя не голова, а тыква-травянка. Придумал… Тебе хорошо… Придешь, крутнешься и в кусты… А мне каково? Хуже, чем к чумному относятся.
Цыган приободрился после того, как угодил в ревир. Вчера он сказал земляку:
— Кажись, наклевывается. Похоже, что врач, Олег Петрович… К нему все тянется…
— Я сам так думал… Только ведь не подъехать. Задача…
После ухода немцев из ревира Цыган не лежал, как остальные, спокойно, а все время ворочался на своем месте, чем-то шуршал, слазил несколько раз с нар и опять залазил. И теперь, когда зашел врач, черный, стоя на четвереньках головой к проходу, поспешно сунул что-то под матрац. Врач пристально посмотрел на него.
— Опять ты, Цыган, кольцами занимаешься?
— Точно, Олег Петрович, не ошиблись. А как же? Живой думает о жизни. Норвежцы уважают кольца. Сувенирами называют. Пакеты хорошие дают.
— Тебе ли думать о пакетах? Такой земляк…
— На бога, говорят, надейся, а сам не плошай… Земляк, Олег Петрович, не всегда может… Хлеба немцы сами получают с гулькин нос. Сидят на норме. Вот и стараюсь…
— А если попадешься? Понимаешь, чем пахнет? Весь ревир разгонят.
— Такого, Олег Петрович, не случится. Даже не беспокойтесь… Не думайте… Считайте — я не делаю их…
— О, какая уверенность! — Садовников улыбнулся. Ему все больше нравился этот словоохотливый, не унывающий человек. Не каждый может в таких условиях сохранить бодрость.
— Ну, а как твой фурункул? — поинтересовался Садовников. — Подними рубашку!
— А ему что? Чирей — он, как барин, — не притронься. Петь не поет и спать не дает. Еще один вскочил, на мягком месте, — приговаривал Цыган, выбираясь на проход. Он поднял рубашку, потом спустил штаны. — Поглядите, может, они, проклятые, устыдятся.
— Только и остается… Ого, ты, брат, богатеешь. Целый узел. Ихтиоловой бы на них… Хотя сам справишься. Велика ли болезнь?
— Осилим, Олег Петрович!
Так Садовников обошел всех больных. И чем бы кто ни страдал, врач не прописывал лекарств. Их не было. Флакон йода, нашатырный спирт, несколько пакетов бумажных бинтов, стаканчики для банок, термометр и стетоскоп — вот почти все, что имелось в распоряжении врача. И все равно больные были рады Олегу Петровичу. Рады потому, что он был своим, проявлял участие, говорил теплые, ободряющие слова. А этого так не хватало каждому.
Осмотрев больных на нижних и средних нарах, Садовников глянул на верхотуру, где лежали Степан и Васек, на секунду о чем-то задумался и вышел. А минут пять спустя появился санитар.
— Эй, на горище! Степан! На прием.
Когда Степан спускался с нар, санитар бережно придержал его, потом подхватил под руку и повел.
— Да пусти, я сам… — запротестовал Степан.
— Ох, якый вострый! Як сам, колы така тэмпература…
Когда вошли в приемную, Садовников сидел за столом.
— А, земляк! Проходи. Вон табуретка.
Степан подошел к концу стола.
— Спасибо, Олег Петрович. Я постою. Удобней…
Врач понимающе хмыкнул.