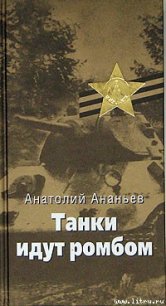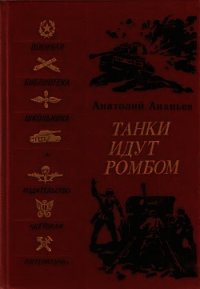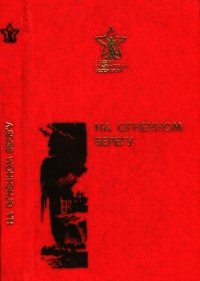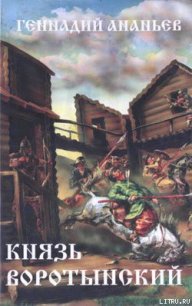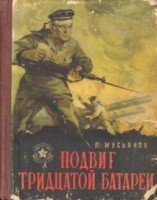Малый заслон - Ананьев Анатолий Андреевич (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
— Капитан был и лейтенант этот, из пехоты. Коньяку трофейного малость достали, ну вот, с удачи… Я и вам оставил. Капитан не велел давать, а я оставил. Налить?
— Налей.
Коньяк крепкий, обжигает во рту. По телу растекается тепло, и так чувствительно, будто опускаешься в горячую ванну. И боль в бедре глуше.
— А здорово вы, товарищ лейтенант!..
— Что здорово-то?
— Ползли, а?.. Ну, думаю, сейчас накроет, сейчас накроет, а посмотрю — вы опять… А капитан наш весь бруствер ногтями исковырял.
— Сильно немцы били?
— У-у!..
— Врёшь?
— Честное слово разведчика.
— Знаю тебя, любишь прихвастнуть.
— Честное, товарищ лейтенант! — подтвердил Опенька и, заметив, что лейтенант улыбается, тоже засмеялся.
— Эх, Опенька, Опенька, хороший ты солдат. Откровенно, я не помню, как полз. Только, мне кажется, не так страшно было, как ты говоришь. Я знаешь чего боялся?
— Снайпера?
— Нет. Думаю, крикнет сейчас командир взвода: «Куда зад поднял? Ниже, ниже, осколком срежет!…» — и весь бой исчезнет. В училище у нас так бывало: мы ползём по плацу на тактических, а командир взвода меж нами с секундомером в руке и покрикивает. Тут бой воображаешь, силишься представить, как жужжат осколки и поют пули, а он: «Опусти зад! Куда задрал зад!» Ну, и весь бой — к черту!
Опенька моргает глазами, он ничего не понимает. Говорит своё:
— Здорово из миномёта садил немец, просто здорово!
— Может, и здорово…
— На что уж я — стреляный, и то, прямо скажу, оробел.
— В окопе-то?
— Почему в окопе? На линию ходил, обрывы соединять.
— Ты?
— Да. Оба раза.
— Значит, и ты был под этим адским огнём?
— Товарищ лейтенант, может, ещё по стопке, а?
— Есть?
— Найдётся.
— Наливай.
— И я с вами чуток, — Опенька налил и в свой стакан.
— Ну и чуток!
— Ничего, мы привычные… Ну, товарищ лейтенант, поправляйтесь скорее и снова к нам. Ваше здоровье!
— Дальше армейского, Опенька, я не поеду. А потом куда же, конечно, к вам. Ну, за возвращение!
Рука дрожит, коньяк плещется из стакана на шинель, на солому. Опенька пьёт залпом — два глотка. Панкратов — медленно, как мёд. Опять по телу разлилась приятная теплота.
— Помоги сесть, — просит Панкратов.
Опенька осторожно помогает лейтенанту, поддерживая его за плечи.
— Ну вот, так, кажется, легче.
— А за фермой сразу замолчали, гады!
— Миномёты-то?
— Ну да.
— С третьего снаряда. Первый был перелёт, второй недолёт, а третий — как раз в точку! А потом — беглый!.. Метались фрицы по снегу, как тараканы. Позиция у них дрянь. Без окопов. Только этой кирпичной фермой и прикрывались.
— А те, что в церковном саду?
— Ну, те…
— Раза три, однако, смолкнут и снова, смолкнут и снова.
— У тех позиция по всем правилам — и щели, и окопы. Траншея прямо под церковь.
— В подполье, знаю. Жили, как у бога за пазухой. Блиндаж у них там. Коньяк-то оттуда.
— Жаль только, что сами улизнули.
— Не-е…
— Да что ты качаешь головой, я же видел, как они на машины грузились, хотел огонька, да вот… — Панкратов потрогал рукой забинтованную голову и поморщился.
— Больно?
— Ничего.
— А все же они не улизнули, товарищ лейтенант. Пехотинцы встретили их на мосту и окружили. Как один, голубчики, подняли руки вверх. Возле церкви стоят сейчас, сизые, как мыши, смотреть тошно. Вы, может, ещё? — Опенька поднял на уровень глаз бутылку. — А я больше не буду, мне хватит, мне ещё в ночь… Да и капитан… Вы ему: ни-ни! А вам налью ещё.
— Давай, чего там, наливай.
— Это полезно, это не повредит.
Панкратов выпил и почувствовал тошноту и озноб.
— Лягу, лягу, — попросил он.
Опенька подхватил качнувшегося лейтенанта и положил его на солому:
— Вот и хорошо. Теперь только поспать, и боль как рукой снимет, — облегчённо вздохнул он и, взболтнув остатки коньяка, спрятал бутылку в карман шинели.
Не слышал Панкратов, как приходили прощаться с ним Ануприенко, Рубкин, Майя и разведчики, как капитан отругал Опеньку за то, что тот коньяком напоил раненного в голову лейтенанта.
Разведчик обиделся и долго потом не мог успокоиться, ворчал, говорил Карпухину, своему другу, что хотел только как лучше, хотел угодить лейтенанту, потому что действительно считал его храбрым, хотя и молод он, ещё не брил усов. А Панкратова в это время санитарная машина увозила в тыл; ранен он был тяжело, и его направляли не в армейский и даже не во фронтовой, а в глубинный госпиталь, в один из отдалённых сибирских городов. Он терял сознание, бредил, вспоминал о какой-то надписи на тополе под сорочьим гнездом, которую просил стереть, но какую надпись, так никто и не мог разобрать.
Батарея Ануприенко двинулась в ночь дальше на запад.
7
Запорошённые снегом машины длинной вереницей растянулись по ночной дороге. Снег тает на капотах, на ветровых стёклах кабин. В кузовах дремлют бойцы, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. А по горизонту горят подожжённые немцами села; доносится артиллерийская пальба, и выстрелы в ночи вспыхивают, как зарницы.
Майя едет в кузове четвёртой машины вместе с Ухватовым, Глотовым и Иваном Ивановичем Силком. Глотов беспечно спит на ящиках, завернувшись в брезент; рядом с ним дремлет Силок, надвинув на, глаза каску, Старшина сидит у самого борта и молча курит, пряча цигарку в широкий рукав шинели.
Оттого ли, что Майя выспалась днём в окопе и возбуждение от утренней канонады улеглось, или просто тихая снежная ночь и мерное покачивание машины так действовало на неё, что на душе было спокойно. После тревог и волнений, которые ей пришлось пережить за сутки, она впервые сейчас почувствовала, что может ясно мыслить. Ей хотелось разобраться во всем, что творилось вокруг, что произошло с ней самой с тех пор, как она приехала на фронт. Не такой она представляла войну. Здесь далеко не все было так, как думала Майя. Люди жили обычной будничной жизнью, как где-нибудь на полевом стане вдали от села. Особенно это чувствовалось в Озёрном. Да и прошедший бой оставил немало недоумений. С утра вроде шло хорошо, стреляли «катюши», наступали танки, пехота, и батарея двинулась вперёд, а затем поставили пушки где-то в кустах у пригорка и целый день били по какой-то деревне. Где немцы, где идёт бой — ничего не было видно. Бойцы работали возле орудий спокойно и уверенно, будто метали стог, А теперь спят прямо в машинах сидя, будто возвращаются поздней ночью с поля домой. Спит Глотов, спит Силок, а старшина, как бригадир, курит и подсчитывает в уме, сколько сделано сегодня и сколько ещё предстоит сделать завтра и послезавтра, чтобы закончить работы в срок.
Майя вспомнила, как она радовалась, когда её, только что окончившую курсы санитарку, зачислили в маршевую роту. Ей завидовали подруги, да она и сама, пожалуй, завидовала себе в тот памятный день. Но едва эшелон отошёл от вокзала, сразу же начались разочарования. Солдаты подшучивали над ней, называли своей Катюшей. Почему-то многие бойцы роты непременно хотели обнять и даже поцеловать её. Майя сначала обижалась, но потом стала привыкать к их шуткам. В конце концов все они были добрые — как одна семья, — и поступки их не таили в себе ничего дурного. Командир роты, старший лейтенант Суров, тоже на вид казался весёлым и добродушным. Он не обнимал и не целовал, а только смотрел, подолгу и пристально. Когда рота выгрузилась и вышла на позиции, Суров неожиданно вызвал её к себе и сказал: «Будешь моим ординарцем». «Я санитарка». «Приказываю!» «Но я же санитарный инструктор роты, товарищ старший лейтенант!» «Я тебе хочу лучше — забеременеешь, скорей домой поедешь!» Майя выбежала тогда из землянки. «Как он смел?» А вот смел. Часа два бродила она по лесу. Идти жаловаться было стыдно, да и не знала кому, возвращаться в роту нельзя. Обидно и горько. Что делать? И вот на опушке леса она наткнулась на батарею… Встреча с Ануприенко обрадовала и успокоила её. Как-никак, это был знакомый человек. Когда-то приходил в село на вечеринки и даже два раза провожал домой. Когда-то она сама ходила к нему в лагерь, и они вместе по-пластунски проползали мимо часового. Конечно, теперь, наверное, все позабылось, потому что много времени прошло, но… Утром в Озёрном он хорошо разговаривал с ней, обещал оставить на батарее, а вечером ни с того ни с сего был строг. Майя подумала: почему так? Разные мысли приходили в голову, но в своём поведении она не находила ничего такого, за что бы можно было её упрекать. И только ночью перед прорывом, когда Рубкин пришёл к ней в кабину, она вдруг поняла — вот почему капитан был с ней строг. От этого худого, щеголеватого лейтенанта надо, действительно, держаться подальше. Рубкин бесцеремонно открыл дверцу: «Мой идеал женщины — Аксинья!» «Но меня зовут Майей…» «Не в имени дело…» — он протянул руку, намереваясь обнять. Майя хотела уйти, но Рубкин задержал её: «Шутки надо понимать правильно…» Какие же это шутки? Вот и теперь, перед выездом из деревни, он опять подошёл и пригласил в свою кабину: «Удобно, тепло и мягко…» Майя отказалась. Не за тем ехала на» фронт, чтобы искать удобства, она солдат и вынесет все, что положено солдату. Пусть знает об этом Рубкин. Теперь, перебирая в памяти все эти встречи, Майя словно вновь переживала обиды и оскорбления. Она на чинала ненавидеть Рубкина. Все в нем, казалось, было противным: и худое, продолговатое лицо, и тонкие губы, и холодные, всегда влажные руки, и крупные белые зубы. Когда Рубкин улыбался, на щеках у него появлялись две угрюмые бороздки, и было непонятно, то ли он улыбается, то ли насмехается. Особенно не нравилось Майе, как он разговаривал — развязно, небрежно, каждое слово отдельно, будто бросал первые попавшиеся под руку камешки, не заботясь, куда они попадут. Но за этой небрежностью чувствовалась напряжённая работа мысли — в сущности, Рубкин хорошо знал, какие камешки бросал и куда. Майя во всех подробностях восстановила в памяти прошедший день боя: как стояли в траншее, когда началась артиллерийская подготовка, как проходили под огнём поляну до высоты, как потом батарея заняла огневые позиции у пригорка… Ей казалось, что Рубкин был страшно медлителен и равнодушен.