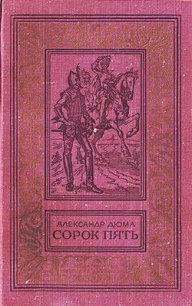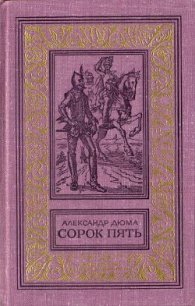Сорок дней, сорок ночей (Повесть) - Никаноркин Анатолий Игнатьевич (читать книги TXT) 📗
Дронов заканчивает игрушку. Таких акробатов и я в детстве мастерил. Две палочки, посередине распорка. Суровая нитка вверху натянута — это трапеция, на ней человечек. Сожмешь чуть концы планочек, акробат на руках выжимается. И стойку может сделать.
— Доктор, хотите, сходим вместе. Отнесем малóй…
— Недалеко?
— Не…
От нашего двора это домиков через десять. Разбитая хатенка — груда камней. Кругом воронки. На огороде насыпь. Погреб. Спускаемся по ступенькам. Полутемно. Сыровато. Бабка — дряхлая, согнутая пополам. Черное лицо, на подбородке длинные седые волосы. Охает.
Дронов взял с собой несколько грудок сахара и галеты.
— Вот, захотелось посолонцевать, — говорит он бабке, протягивая сверток.
Бабка ковыляет к бочке. Достает хамсу — крупную, жирную.
— Ишо Тимофей засолку делал, — шевелит она втянутыми губами. — Господи, иде он сейчас?
Хамса Дронову не нужна. Почти в каждой хате она есть: поешь, а потом хлещешь воду целый день. Но Дронов дипломат. Перед тем как шли сюда, он объяснил: «Так вроде неудобно дать, а вот на обмен бабка пойдет».
Бабка накладывает полный котелок хамсы.
— А где Александра? — спрашивает Дронов.
— К морячкам побегла. Сидайте (это она ко мне). Може, водички хотите? В макитре сладкая есть.
Я отказываюсь.
— Феня, посмотри, и хто пришел, — кричит бабка.
Из вороха одеял, тряпья высовывается черная головка, странные недетские глаза. Девочка лет шести. Лицо белое, почти прозрачное, давно не видавшее солнца. Руки тоненькие. Чешет их.
— А я тебе чего, малáя, принес! Акробат… Сальто- морталь. Алле-гоп… Фокус-покус!
Дронов показывает все номера, на которые способен акробат. И сам кривляется. Девочка не реагирует. Дронов протягивает игрушку. Молча берет, синеватые губы чуть вздрогнули.
— Ты боишься нас? — спрашиваю.
Она не отвечает.
— Туга на ухи она, — поясняет бабка. — От бонб. У первый день, как высадились… Солдаты рядом стояли. Бонба попала — всех поубивало, одиннадцать душ было… Царствие им небесное!
Приходит Александра. В солдатском ватнике, высокая, сухая. Приволокла громадный узел с бельем.
— Простирнуть ребятам. Все грязные — вши едят.
Дронов говорит, что я доктор.
— У мамы ноги пораспухали — снять бурки не может… А у Фени все тельце в болячках — расчесала… И ушки…
Обещаю принести марганец и камфоры. Интересно, как им удалось остаться здесь?
Александра рассказывает, что немцы за день до высадки приказали жителям немедленно эвакуироваться в степные села.
Погрузили и они свое барахло на тачку. Началась стрельба, у дамбы снаряд разорвался, бабку сбило — двинуться не может.
Александра тайком, огородами, перетащила дочь и мать во двор, спрятала в копне сена.
— Ранетые у нас в погребе лежали, — говорит бабка. — Матросика еще трясовица трясла — кипяток ему грела.
— Их потом забрали в школу-госпиталь, — добавляет Александра. — Я и сейчас могу взять раненых, если нужда есть.
— Конечно, нужда, — подхватывает Дронов. — Правда, доктор? Бабьи руки лучше выходют раненого.
— Правильно, — соглашаюсь я. — Вот только надо с нашим замполитом потолковать.
Идем назад, Дронов вздыхает:
— И чего дите должно мучиться… Ну, солдату положено. А дите при чем? Вы у глаза ей заглядывали? Будто у мертвого — стекляшки… Боже, потопчи во гневе ворогов наших.
Молчу. Эти немигающие, с застывшим страхом, недетские глаза я видел и раньше.
В Махачкале, осенью сорок первого года.
Работал лекпомом на эвакопункте при вокзале. День и ночь на товарняках и открытых платформах прибывали беженцы…
Без конца, на каждом поезде, тьма-тьмущая. Махачкала — тупик. Дальше по железной дороге никого не пускали. Единственно — морем на Красноводск, а парохода ждали по две-три недели.
Жили эвакуированные в клубе железнодорожников. Здание битком набито — лежать невозможно. И все-таки тех, кто находился там, считали счастливчиками — основная масса беженцев жила на берегу моря, за вокзалом. Лагерь растянулся больше, чем на километр. Грязные голодные дети с раздутыми животами, растрепанные женщины с запавшими глазницами, развалины-привидения — старики и старухи.
А я все ходил-бродил по берегу, искал своих родных. Они тоже эвакуировались, а куда — не знал. И ждал чуда: а вдруг встречу. Пробирался через мешки, тряпье, узлы, палатки, постели, костры. Через дым, ветер, пыль песчаную, грязь, вонь, кислятину. Тут делали все: варили, стирали, ели, спали, ругались, искали в белье насекомых, плакали, оправлялись, дрались, горели в лихорадке, торговали, меняли продукты. Как в страшном сне, проходил я сквозь тягучий, чадный, однообразный гул бездомного становья — раздавал больным пилюли, порошки. Помню двух полуслепых стариков — евреев из Молдавии. Белые библейские бороды. Высокие барашковые шапки. С ними маленький больной внук. Матери нет — убило в дороге при бомбежке. Старики совершенно растерянные, пошатываясь, одно причитали: «Ой, Мотеле, Мотеле…»
Мальчику три года. Глаза — стекляшки. Молчит, даже не плачет. Тяжело, часто-часто дышит. У него пневмония, но в больницу не возьмут — переполнено. Даю кодеин. Колю камфору. Старики все причитают. Прошло четыре дня. Прихожу как обычно на дежурство, вижу — старики повеселели.
— Сегодня мало кашляет. Заснул…
А у мальчика синее лицо и немигающие глаза. Мне кажется, он не дышит. Слушаю стетоскопом. Тело холодное. Он мертв.
— У нас гости, — встречает меня Савелий. — Морячки с подбитого мотобота. Цирк устроили.
Прошлой ночью — мы даже не знали — прорвалось несколько мотоботов. Один из них волной выбросило на берег за хоздвором. Трое моряков в высоких резиновых сапогах, с кинжалами на поясах беспечно расселись посреди двора. На плащ-палатке — бидон, таранка, кружки. Как ни в чем не бывало пируют. С аптекарем подходим к ним.
— За здоровье ваше — в горло наше! — моряк с замусоленной повязкой через лоб опрокидывает алюминиевую кружку в рот, крякает.
— Спиритус? — интересуется аптекарь.
— Чача! — отвечает горбоносый, смуглый. — Пропустим? До левой пятки достанет.
Савелий отхлебывает, морщится, краснеет.
— Рыбкой закуси, — предлагает ему моряк с повязкой. — От нее кровь густеет, шея толстеет.
— Она у нас в печенках сидит.
— Слушайте, хлопцы, — говорю я. — Все-таки щель бы нужно вырыть. Блиндаж…
— Обстреливает, дай бог, — поддерживает Савелий. — Это сейчас что-то немец притих. С горы ему все видно.
— А мы здесь зимовать не собираемся, — усмехается горбоносый. — Сорвемся… А, Туз?
Туз — это моряк с повязкой.
— Двадцать одно — всегда очко, — бросает Туз. — Всегда везло.
— Везло? А вчера перебор вышел, — вставляет с подковыркой скуластый, со щербатым зубом, старшина. Он чвиркает сквозь зубы. — Не сумел удержать катер против зыба… Тоже мне!
— Старшой, — оправдывается Туз. — Мотор ведь водой залило. А то бы разве вышло так?
Ребята кажутся знакомыми. Особенно морячок с повязкой и другой — горбоносый.
— В ночь на второе ноября сюда не приходили? Часом, нас не выбрасывали? — спрашиваю.
— Может, и выбрасывали… Разве всех упомнишь? С первого по шестое из катера не вылазили. Роба не просыхала.
— Минометчики на мотоботе тогда были… И рули у вас еще заклинило, — напоминаю я.
— А, минометчики? С полка? Бородач такой, лейтенант…
— Да, Житняк…
— Мы из-за него чуть не накрылись, — говорит горбоносый.
— Живой он, бородач? — спрашивает Туз.
— Можешь встретиться.
— А ну его.
— Ту ночку не забуду, — сплевывает старшина. — Только отошли — снаряд как ударит в борт. Задраили пробоины матрацами. Вода все равно хлещет, а у нас одна помпа… Еще влепили повыше ватерлинии, командира ранило…
— Тут еще шесть чудаков с подбитого буксира подобрали, — прибавляет горбоносый. — Катер совсем погруз.
— А фриц лупит — то спереди, то сбоку. Дымовую шашку зажгли, поставили на носу — дым на нас, дыхнуть нечем. Чую, не дотянем, хоть коса вон уже. Ребята в воду. Мы с греком (старшина показывает на горбоносого) командира поддерживаем, поплыли… Добрались до базы — язык на плече.