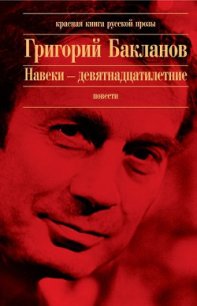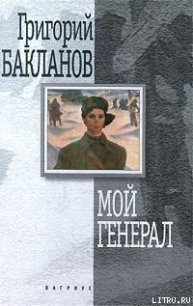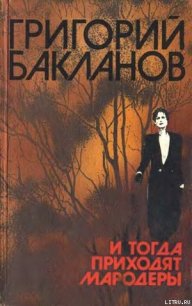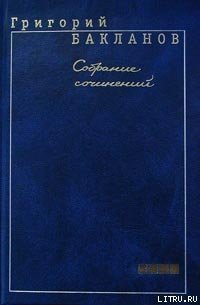Июль 41 года (с иллюстрациями) - Бакланов Григорий Яковлевич (книги хорошего качества TXT) 📗
— Стой, Курт! Тут сидит еврей. Пойдем отсюда.
И они прошли в глубину зала. Бровальский до крови прокусил себе губу, чтобы не подойти и не дать по морде. Будь это несколько лет назад, он бы не задумался. Но за эти годы привычка соразмерять свои действия с чьим-то незримым регламентирующим мнением, которое пусть даже и не высказано к данному случаю, а все равно существует как некий незримый эталон, эта привычка видеть вещи не своими глазами уже вошла в кровь. Он, полковой комиссар, бьет в ресторане летчика дружественной державы… И он сидел, облитый позором, мужчина, не трус, физически сильный человек, полковой комиссар Красной Армии. Они, фашисты, в чужой стране вели себя как дома, а он, у себя дома, должен был учитывать нежелательные последствия. Он видел, как официант стоит перед ними в почтительной позе, как потом оба они, откинувшись, сквозь дым сигарет смотрят на женщин в ресторане оценивающими взглядами, переговариваясь между собой…
В эту ночь он, может быть, впервые так думал о запретном. Он не был наивен. Он знал, что там, где творится высокая политика, там нет места чувствам, там действует разум, и где-то приходится отступать и идти на компромиссы во имя достижения дальних целей. Совесть, мораль — для дипломата они не могут существовать в том виде, как для обычных смертных. Но сегодня он на себе испытал результат. В своей стране получил оскорбление от фашиста и не мог на него ответить. И впервые в эту ночь Бровальский подумал о том, достаточно ли четкой осталась грань, где кончается тактика и начинаются принципы. Как бы ни был этот договор нужен, быть может даже необходим, он еще повлечет за собой многие непредвиденные последствия, которые легко вызвать и трудно устранить.
Но даже со Щербатовым Бровальский не мог сейчас об этом говорить. Во всем случившемся было что-то постыдное для него лично. Он получил пощечину там, где должен был ее дать. И это жгло.
А Сорокин с ужасом видел, что они говорят о чем-то неглавном, несущественном, когда с минуты на минуту может случиться непоправимое. И движимый единственным стремлением спасти Щербатова, пока не поздно, помочь, он сказал умоляющим голосом:
— Иван Васильевич, я может быть, недостаточно ясно выразил… Сюда едут член Военного совета армии и прокурор. С минуты на минуту…
Щербатов снизу посмотрел на него, сказал мягко, потому что он понимал:
— Езжайте в штаб. В такое время штаб не должен оставаться без начальника штаба. И проверьте, подготовлена ли связь и все необходимое на запасном КП.
Какое-то время Сорокин еще стоял. В нем все боролось, но только вздернутые плечи и шевелящиеся пальцы рук говорили о его желании и беспомощности. Скованный дисциплиной, он чувствовал себя человеком, присутствующим при самоубийстве, видящим все и лишенным средств помочь.
Когда он уехал, Бровальский подошел к Щербатову, сел около него на траву. Так они сидели и курили. Потом Бровальский, глядя снизу в глаза, положил ему руку на колено, дружески и твердо. И Щербатов понял: что бы ни случилось, комиссар будет рядом.
В штаб они вернулись, когда было темно, и почти сейчас же Щербатова вызвали к аппарату. Он взял трубку.
— Щербатов?
Говорил Лапшин, и все понимали, что будет сказано сейчас. Стоя с трубкой в руке, Щербатов зачем-то поднял валявшуюся крышку чернильницы, поставил ее на место. Мысль его была не здесь, а руки сами по привычке делали свое. Бровальский и Сорокин смотрели на него. Он стоял у аппарата и со стороны казался таким спокойным, что становилось страшно на него смотреть. В тишине заглянул в дверь дежурный и поспешно скрылся. Но Щербатов ничего этого не видел. Он слышал только дыхание на том конце провода и ждал. Он был готов ко всему. Но только не к тому, что услышал в следующий момент:
— Щербатов! Немедленно поднять дивизии по тревоге. Боеприпасы иметь при войсках. Но помни, не исключена провокация. Может создаться сложная обстановка. На руки личному составу боеприпасы до особого распоряжения не выдавать!
Бровальский, не отрываясь смотревший на него, увидел, как Щербатов вдруг резко побледнел. Положив трубку, он медленно снимал с головы фуражку, сам не замечая, что делает. Свершилось! Не было мыслей о себе, было только сознание огромной обрушившейся беды. Он сел, и никто не решался ни о чем спрашивать его.
— Ну вот, — сказал он и взглянул на Бровальского. — Чего ждали — дождались. Приказано поднять войска по тревоге.
В эту ночь, отдав все распоряжения, он на короткое время заехал к себе домой. Он жил один, по-походному сурово. Топчан, покрытый ковром, письменный стол с лампой, приемником и несколько полок книг. Умея отказывать себе во многом, книги Щербатов покупал всякий раз, когда видел их, читал ночами, придвинув тумбочку с настольной лампой к топчану, читал, курил и думал, прихлебывая из стакана холодный чай. И постепенно книги скапливались на полках в зависимости от того, как долго он на одном месте жил.
Глядя на них сейчас, Щербатов испытал странное чувство: в сущности, как беззащитна сама по себе человеческая мысль! Сколько раз она уже оказывалась погребенной под обломками, и людям приходилось начинать все сначала, раскапывая остывшие пепелища…
Он трогал книги рукой, брал их, раскрывал и ставил обратно. И тут из одной книги выпало что-то. Щербатов нагнулся. Брошюрка. Он поднял ее. На серой со щепками грубой бумаге — плакатный черный шрифт двадцатых годов. Волнуясь, Щербатов раскрыл ее. Наискось по заглавию — шутливая надпись: «Мужу сестры — от мужа сестры. Читай, Иван, ибо чтение развивает». И длинная роспись, так, что каждую букву можно прочесть: «Ф. Емельянов». Четыре года назад вот эту брошюру они искали с женой, перерывая всю библиотеку. Искали, чтоб уничтожить, и так и не нашли. Волнуясь, Щербатов держал ее сейчас в руках. И многое вспомнил он, глядя на эту надпись. Ему вспомнился последний приезд Емельянова.
Это был уже конец лета тридцать седьмого года, и события к тому времени приняли огромный размах. Как-то раз Щербатов возвращался домой пешком. Обычно стоило нажать кнопку лифта — и ты уже на шестом этаже. Но в этот день лифт испортился, и он шел по лестнице мимо квартир и видел сразу все то, что происходило постепенно. Он помнил людей, живших еще недавно за этими дверями, их лица, голоса. Лестница густонаселенного дома всегда была полна запахов, особенно в праздники: пеклось и жарилось на каждом этаже. Хлопали двери, с визгом, словно за ними гнались, выскакивали дети, лестница звенела их голосами, матери кричали из окон во двор: «Томочка! Витя! Ви-итя! Вот погоди, отец придет!..» Сейчас он видел пломбы на дверях, и шаги его гулко раздавались по каменным ступеням.
На втором этаже в большой квартире, соединенной из двух смежных квартир, жил дивизионный комиссар, человек сумрачный — дети во дворе почему-то его боялись. В гражданскую войну он был ранен шрапнелью, когда в пешем строю вел полк в атаку. Нога срослась плохо, рана болела, и, наверное, от этого он всегда был мрачен. Его взяли одним из первых в доме.
Напротив жил военный инженер с женой. Оба молодые, красивые, рослые, на редкость подходившие друг к другу. Она была в положении, ждали сына, и было хорошо смотреть, как вечерами, гуляя, он осторожно вел ее под руку. Она говорила: «Господи! В такое время я — беременна!» Его тоже взяли, почти одновременно с дивизионным комиссаром.
А третья дверь была не опечатана. Здесь жил известный неудачник, человек, которому всю жизнь не везло, о чем жена его постоянно оповещала весь двор, жалуясь, какая она несчастная, что вышла за него замуж, и какая она дура, что родила ему четверых детей мучиться. В тридцать четвертом году, в компании он сказал: «Вы представляете, что будет, если товарищ Сталин умрет!..» Он не думал ничего плохого, он только хотел выразить свой ужас, если бы такое вдруг случилось, и хотел, чтоб люди этот его ужас и преданность его видели. Его исключили из партии, он долго нигде не мог устроиться на работу. Потом устроился мелким служащим в контору и тихо работал в ней по сей день.