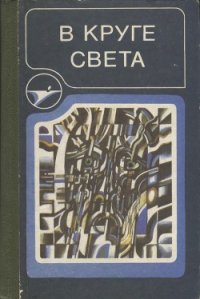Военные рассказы и очерки - Иванов Всеволод (книги бесплатно без TXT) 📗
Проступающие как бы в дымке прошлого силуэты героев Бородинского сражения; написанные смелыми, сочными мазками вольные и мощные характеры сибирских партизан; очерченные графически четко фигуры бойцов и офицеров эпохи грандиозных битв с немецким фашизмом — все эти разноликие образы как бы сливаются в книге в общий образ народа в его историческом движении по трудному пути вооруженной борьбы за независимость и славу своей родины, за осуществление идеалов человечества.
В книгу включены три очерка, рисующие облик фашистской армии — «Они пишут завещания», «Час расплаты», «Там, где судят убийц». Тупое, звериное лицо врага — гитлеровского фашизма, которому гробом обернулась его попытка покорить советскую силу, — обрисовано в них разгневанно и непримиримо. Разоблачение трусливо-слякотных натур завоевателей и их вдохновителей дает возможность еще глубже понять величие основных героев книги, утверждающих своими боевыми деяниями бессмертие родного народа и неистребимую волю к жизни.
В дни войны Всеволод Иванов с полным правом мог сказать, что его «умение писать пригодилось этим полям, этим нивам, окопам, городам, вокруг которых студенты роют рвы и ставят железобетонные надолбы». И он тоже, как мог и умел, защищал свое отечество. Тот, кто раскроет эту книгу, убедится, что горение души писателя сообщает написанному им жар неостывающего чувства. Когда читаешь повести, рассказы, очерки этого писателя, кажется, пылаешь сам страстью и восторгом, ненавистью и любовью, наливается силой сердце и ширится душа. И как отрадно, что эта книга — всего лишь малая часть созданного художником и не исчерпывается ею читательская радость общения с этим пленительным, своеобычным человеком и талантливым мастером самоцветного русского слова.
А. Макаров

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Рассказы
К СВОИМ
Получив приказ, майор собрал уцелевших бойцов и сказал:
— Выход из окружения осуществить небольшими группами. В пять — шесть человек.
Он помолчал, как бы давая возможность вдуматься в грозное величие слов приказа, а затем добавил:
— Задача наша будет состоять из четырех пунктов: а) дойти до цели, в район Воробьевска, б) в дороге наводить панику на врага, в) собирать все сведения о противнике, г) беречься шпионов, а тем более не привести их с собой. Переходы осуществлять ночью. Все. До свиданья, товарищи.
К вечеру остатки соединения, потопив орудия и разбив машины, покинули место боя.
Случилось так, что последней группой уходили те пять человек, которых должен был вести политрук Григорий Матвеевич Мирских. Группа уходила последней потому, что боец-ополченец Мирон Подпасков никак не мог уложить в котомку свое имущество. Уму было непостижимо, откуда только оно появлялось. Валенки лежали в ящике с пулеметными дисками, шапка в свертке с плакатами, полушубок среди медикаментов — и вдобавок оказалось, что хотя зимнего обмундирования не выдавали, Подпасков уже имел его. Наконец он нашел где-то пустой рюкзак, сложил в него зимние вещи, — но и то все не влезло. Он принес второй рюкзак и навьючил его на своего приятеля Семена Отдужа, хилого, длинного, с голубыми терпеливыми и мечтательными глазами, безмолвно говорящими о постоянной нужде и постоянной вере в то, что нужда эта минует, — и минует по воле односельчанина его, вот этого самого Подпаскова.
— Не тяжело будет нести? — спросил Мирских.
— Зачем тяжело? Ведь это мое, — ответил Подпасков.
Лицо его, широкое, угловатое, покрытое грязным потом (такое лицо народ бесхитростно называет мордой), его переваливающаяся быстрая и хитрая походка, его моргающие глазки, подергивание плечами, словно над ним постоянно моросит дождь и холодная вода льется за воротник, ненужное множество морщин на лице и одежде — все это и при других, менее сложных обстоятельствах могло вызвать раздражение.
Раздражение и бушевало в сердце третьего бойца их группы Гната Нередка. Это был плотный, широкий и крепкий парень лет двадцати пяти с плавными движениями, глядя на которые редкий не скажет: «Какой ловкий солдат». Он действительно был ловок, смышлен, любил исполнять приказания, и ему даже кое-чем нравилась война, пыл сражений, переходы, и как раз по нему были размеры винтовки, а с автоматом он казался еще пригляднее. К тому времени, когда майор произнес последние слова приказа, Гнат Нередка был уже готов к переходу. И вот с ранцем за плечами, с автоматом в руках, с фляжкой воды и аварийным запасом продовольствия он стоял рядом с политруком и чрезвычайно неодобрительно смотрел, как Подпасков суетится со своими вещами. Но раз политрук ничего не говорил Подпаскову, то молчал и Нередка. А он многое мог бы сказать. Он лишь доставал большой чистый и голубой платок, сморкался в него, свертывая его вшестеро, и, спросив разрешения у политрука, закуривал трубочку.
Политрук Мирских поверх головы Подпаскова и Нередка смотрел на место сражения, на эти сгоревшие танки, на эти разбитые снарядами орудия, взорванные блиндажи, грузовики, упавшие в канавы, и на множество немецких и русских трупов, прикрывших собою хлебные поля. Немцы прекратили огонь. Должно быть, они догадывались о маневре русских и теперь перебрасывали войска на фланги, чтобы отрезать дивизии пути отступления.
Солнце, ясное и осеннее, приближалось к закату. Немало людей на этом поле видело его последний раз, и, пожалуй, последний раз видел такое поле и Мирских. Он не часто думал о смерти, но теперь-то, пожалуй, она была близка более, чем когда-либо. Дожди, холодные осенние ночи, длинные переходы, кажется, возобновили его болезнь. Ночью, а в особенности под утро его сильно знобило, а днем мучила испарина и головная боль. Врачу он не желал показаться и потому, что не любил лечиться, и потому, что считал, что есть множество людей более больных, чем он, более нуждающихся во врачебной помощи. Товарищам, которые, глядя на его неестественно алые щеки, посылали его к доктору, он говорил шутливо: «Койки для меня достаточно длинной не найдется». Он действительно был очень высокого роста, но высота его производила благородное впечатление, напоминая собою самую высокую клятву и самый чистый источник одновременно.
Поле битвы казалось ему необычайно красивым и могущественным. Сколько поэтов будущего побывает на нем. Сколько песен будет создано о том, как одна русская дивизия держала это поле в своих руках, в продолжение трех дней сопротивляясь пяти гитлеровским. Сколько слез прольют люди над фильмами, изображающими это сражение. И разве не вспомнят они о том, как после сражения, перед тем как покинуть его, нехитростный русский портной Лубченков, по прозванию Сосулька, маленький, сутуленький, похожий на ковшик, сидел на пенечке и наигрывал что-то на губной гармошке. Ротный баян разбило снарядом вместе с передвижной библиотекой, и он услаждал себя, подыскивая мотив на этой весьма не обильной звуками деревянной, обитой белой жестью игрушке.
— Что вы играете, Лубченков? — спросил политрук.
Лубченков не отвечал, словно спрашивали не его.
— Что вы играете, Сосулька? — спросил его политрук.
— «По Волге-матушке зимой», — ответил тонким голоском Сосулька. — А что, не похоже?
И он засмеялся.
— Если, скажем, сравнить душу человека с пальто, так от этих минометов, товарищ политрук, не только верх отпадет, но и подкладка. Песня — это подкладка.
Катит себе война на огненной колеснице и подкашивает тебе и душу и песню. Так, что ли, сопелочка? — спросил он, дуя в гармошку.
И тотчас же он ответил сам себе песней. Песня получилась. Волга, широкая, зимняя, стлалась перед слушателями. Звенел колокольчик. Ямщик натянул вожжи. Возлюбленная ждала его у окна…
Даже Подпасков почувствовал, что вещи его собраны, и стоял, опираясь на лопату и думая о доме, о детях, о матери, ради которых он четыре года уже работал в городе каменщиком, чтобы получить городскую сноровку, ученье и вернуться в село и быть по крайней мере председателем колхоза. Когда Сосулька окончил песню, Подпасков сказал, указывая на поле: