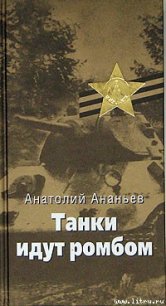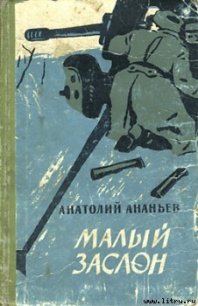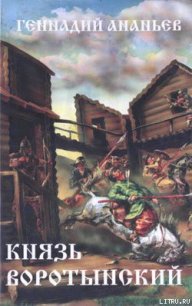Танки идут ромбом (Роман) - Ананьев Анатолий Андреевич (книги бесплатно читать без .txt) 📗
— Чего гремишь!
— Проминка. Ногам проминка.
«Мальчишка, дурь в голове, э-эх!»
Спустились в лог, потом шоссе снова вывело на косогор, и перед разведчиками развернулась холмистая с перелесками даль. За лесом в голубой дымке тонут белгородские высоты. Там — фашисты. И оттого высоты кажутся суровыми, настороженно холодными, чужими. А здесь, по эту сторону леса, в балках, на пригорках, на плоских вершинах холмов и по склонам — всюду двигаются едва заметные фигурки солдат; вгрызаются в землю, опутывают окрестность ломаными зигзагами траншей и ходов сообщений. В перелеске, среди нежных белоствольных берез, стоят укрытые зелеными ветками танки; издали они похожи на копны; много копен, и веет от них не пряным сеном, а удушливо-горьким запахом бензина и металла. В лощине, как черные колья, подняли к небу жерла тяжелые минометы. Они гнездятся по самой кромке кудрявого ракитника. Над кустами клубится дымок походной кухни. «Сила-то, сила какая!» — мысленно воскликнул Царев, удивляясь и поражаясь тому, что видел вокруг. И хотя эта сила окапывалась, закреплялась, готовилась к упорной обороне, все же радостно было сознавать, что она есть, что вот она, ощетинилась жерлами и ждет только взмаха чьей-то могучей и твердой руки.
— Будут дела, чемпион, смотри! — Он хлопнул Саввушкина по плечу.
Тот удивленно взглянул на Царева:
— Какие дела?
— Смотри, брат, силища, а?
— Это-то?.. Эт-то я и сам вижу.
— Ни черта ты не видишь, чемпион. Брось тарахтеть банкой, сапоги портишь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
На въезде в Соломки, почти у самой обочины шоссе, виднеется пятнистая, цвета летней степи палатка. В ней живут девушки-регулировщицы. День и ночь стоят они на развилке, пропуская бешеных мотоциклистов, лихих шоферов, медлительных и шумливых хозяйственников. Здесь пролегает одна из главных артерий фронта, и на ней беспрерывно пульсируют красные флажки загорелых, запыленных — только глаза и зубы — девушек. Командует регулировщицами угрюмый рыжеусый сержант Шишаков. Он проверяет документы у проезжих и строго, как свекор-ворчун, следит за девушками. Редко кто задерживается у палатки, стоит только присесть кому-нибудь, Шишаков хмурится и сердито произносит: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя». Особенно недолюбливает он соломкинских, из батальона майора Гривы, — блудливый народ. Лишь один лейтенант Володин пришелся ему по душе. Каждый раз, приходя на развилку, лейтенант приносил с собой пачку-две крепкой сибирской махорки и почтительно, как подарок, вручал старому сержанту: «Держи, папаша, отводи душу». Шишаков крутил рыжие усы, смотрел хитровато, из-под бровей, и качал головой, дескать: «Вижу тебя, лейтенантик, насквозь вижу, жука масленого!» Махорку тут же пересыпал в объемистый, как наволочка, кисет, затягивал его узелком и, кряхтя, прятал в бездонный брючный карман. Разговор обычно начинался с «как живешь» и заканчивался волновавшим тогда всех «вторым фронтом». Не стесняясь в выражениях, Шишаков вовсю костерил Черчилля, Володин поддакивал ему, а сам то и дело украдкой поглядывал на дорогу — хоть бы машина, хоть бы мотоцикл! Наконец появлялась машина, сержант, смоля толстую, в палец, самокрутку, отправлялся проверять документы, а лейтенант заходил в палатку к девушкам. Они угощали его чаем и охотно слушали разные фронтовые истории, которые Володин сам когда-то слышал, но о которых рассказывал обычно как очевидец. Нравилась ему Людмила Морозова — белокурая веселая регулировщица; рассказам лейтенанта она не верила, смеялась над ним, называла «хвастушей», но ухаживания принимала благосклонно и однажды даже согласилась прогуляться с ним днем по селу. Но Шишаков не отпустил ее. Это случилось недавно, вернее сказать, вчера, Володин ждал Людмилу возле развалин двухэтажной кирпичной школы, ждал почти дотемна, а потом ушел в санитарную роту к фельдшеру Худякову.
Комбатовский мотоцикл, пыля, обогнул стадион и скрылся за плетнем. Володин отошел от окна. Теперь можно было снова расстегнуть воротник и снять пояс. Полуденная жара спала, но в комнате упорно держалась нестерпимая духота. Сегодня лейтенант особенно тяжело переносил ее. После вчерашней выпивки (а выпивал он в санитарной роте у фельдшера Худякова, где справлялись чьи-то именины; или старшей сестры, или самого фельдшера — Володин так и не мог припомнить теперь) болела голова и чувствовал он себя разбитым. Ни за что не хотелось браться, начатое утром письмо к матери так и лежало на столе неоконченным. Лечь бы и уснуть, забыть обо всем на свете; ни тебе разведчиков, ни этой проклятой девчонки… Он вспомнил, как вечером ходил на развилку к Людмиле и как вместо Людмилы с ним, пьяным лейтенантом, разговаривал рыжеусый сержант Шишаков; сержант рассказывал о своей молодости. Старый черт! Володин прошел к печке, вернулся к окну и опять прошел к печке. И, уже не останавливаясь, зашагал взад-вперед, медленно, заложив руки за спину, точь-в-точь как только что делал это уехавший на мотоцикле майор Грива.
Майор приезжал инструктировать Царева и Саввушкина, которых отправляли за «языком»; Володин вспомнил, как долго и назидательно говорил майор, как слушали его разведчики, то и дело повторяя: «Понятно, понятно!» — но Царев все же переспросил, дадут ли минера, чтобы расчистить проход к проволочным заграждениям; вспомнил еще, как сам он стоял у окна и больше смотрел на дорогу, на дремавшего у ворот в коляске комбатовского мотоциклиста, чем на расстеленную на столе карту, — он знал наизусть эту карту с красными и синими линиями наших и вражеских траншей — и с нерешительностью думал о том, попроситься ему с разведчиками на задание или нет. Только когда солдаты вышли, Володин сказал командиру батальона: «Разрешите и мне с ними?» — но голос был так нерешителен и сам он казался таким вялым и сонным, что майор только недоверчиво покосился и ничего не ответил.
Ни о майоре, ни о Цареве, ни о Саввушкине — ни о ком не хотелось сейчас думать Володину; снова, как и утром, его охватил приступ гадливости: «Нахлестался, как дурак. И верно, что — пе-ехота!» Пятерней пригладил волосы, лениво потянулся и прилег на ободранный скрипучий диван. Чтобы как-нибудь избавиться от неприятного ощущения, взял со стола «Правду» и — в который раз сегодня! — прочел сообщения с фронтов. «Поиски разведчиков». Поиски! Завтра и про нас напишут так: «В районе Белгорода предпринимались поиски разведчиков…» Повернулся на бок и столкнул с дивана ногой сапожную щетку. Поднял ее, повертел в руках: вот чего не хватало ему сегодня — щетки! Именно сапожной щетки! Володин чуть не вскрикнул от радости. Сейчас он навощит сапоги — и на развилку!.. Решение пришло мгновенно, и он уже не пытался ни отменить его, ни как-либо изменить, даже не искал оправдания перед собой, — ведь только вчера дал клятву не ходить туда! — просто почувствовал себя свободно и легко, и эту легкость хотелось продлить как можно дольше. Когда вошел старший сержант Загрудный доложить, что Царев и Саввушкин уже отправились на задание, Володин не стал его слушать, попросил принести махорки.
— Закурить? — переспросил Загрудный.
— Пачку. Неужели забыл?
Старший сержант по-бычьи упрямо посмотрел на лейтенанта:
— Ребята не одобряют.
— Что не одобряют?
— Зачем она вам, девчонка эта…
— Вот что, Загрудный, — резко сказал Володин. — Не лезь в мои сердечные дела. Хочешь уважить, принеси, что прошу, а нет — сам достану.
Сначала тропинкой за огородами, потом краем оврага Володин шел к развилке.
Может быть, впервые в жизни он чувствовал себя так хорошо и бодро, может, быть, впервые в жизни так жадно смотрел на окружавший его мир, и впервые, созвучный его душе, этот удивительный мир открывал перед ним свою красоту. Он видел все разом и видел каждую травинку в отдельности, любовался тем, что было рядом, у ног, и в то же время не мог оторвать взгляда от перелесков и холмов на широком, как размах, горизонте; прислушивался к звукам угасающего дня и прислушивался к себе, как бы проникал в глубь себя; и ему казалось, что все вокруг и он сам до краев наполнены счастьем. Смешным и нелепым сном казалась ему теперь прошедшая в пьяном чаду ночь. Нет больше того Володина, взъерошенного и пьяного, а есть другой — чистый и звонкий; и оттого, что между тем и другим лежала теперь черта и что эту черту провел он сам одним решительным росчерком, — именно это и радовало его сейчас. Было приятно идти краем оврага, слышать пение иволги и знать, что все прошлое — прошло, а будущее — будет; и еще знать, что есть на свете белокурая Людочка, которая, наверное, очень ждет.