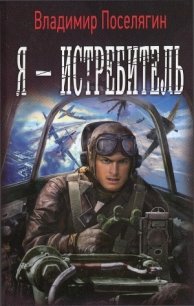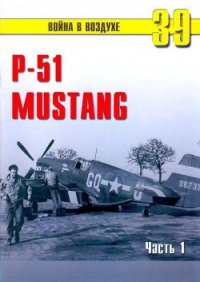Суровый воздух - Арсентьев Иван Арсентьевич (библиотека книг txt) 📗
– Мамочка… Асс!.. – воскликнула девушка, насчитав одиннадцать крестов.
– Одиннадцать и туз – перебор, Таня! Проигрался асс на тот свет!.. – воскликнул возбужденный летчик и, зло усмехнувшись, демонстративно повернулся спиной – к обломкам. По белому полю к ним бежали люди. Впереди всех был Попов.
Оленин стоял внешне спокойный. В душе он гордился своим поступком. Ведь он не только сбил врага на глазах у всех, он спас жизнь товарищу. С его круглого поросшего светлым пушком лица не сходила добрая улыбка. Но улыбка скоро растаяла.
Втянув голову в меховой воротник комбинезона, Попов, не взглянув на него, молча проследовал к сбитой машине. Несколько минут разглядывал изуродованный, скрюченный металл, затем пнул ногой бесформенную груду, плюнул в центр пикового туза и медленно пошел к своему самолету.
– Байбак ты и есть байбак… – сердито сказал ему вслед Борода, движимый чувством обиды за Оленина.
Попов резко остановился, повернулся к нему.
– Продолжай дальше… – сухо произнес он прищурившись. – Тяни лазаря: гордец, черствец, нелюдим, сухарь… Еще что?
– Брось, Попов. Тебя товарищ спас от верной гибели, а ты? Спасибо даже не сказал!
– Ерунда! Оленин не барышня; За дело благодарить буду делом, – отрезал Попов и, повернувшись, быстро зашагал по полю.
В полку о Попове ходили легенды. Было в этом странном, ершистом человеке что-то такое, что невольно притягивало к нему. Скупой на слова, замкнутый, он отличался исключительной храбростью Ему, например, ничего не стоило войти в самый свирепый огонь зениток без маневра или без всякой нужды вступить в схватку с вражескими истребителями, что, конечно, не всегда сходило ему безнаказанно. Его безрассудная, граничащая с фанатизмом смелость вызывала среди летчиков много разговоров. Одни оправдывали, другие осуждали, Оленин искренне завидовал. Однажды, после одного из удачных боевых вылетов Попова, Оленин восторженно заметил ему:
– Ну, знаешь, Попов, работаешь ты классически!
– Ка-ак? – переспросил Попов.
– Классически. Ну, в высшей степени замечательно!
– Во-он как! – угрюмо усмехнулся тот.
Задетый его пренебрежительным ответом, Оленин долго стоял размышляя: «Что он из себя строит, этот Попов? Бравирует своим безразличием, напускает на себя скромность».
Как-то еще в Грозном Остап Пуля затеял с Черенком спор о соответствии и противоречиях между внешностью и характером человека. Оленин, обозленный на Попова, без всякой деликатности отметил:
– Зависимость здесь самая прямая. Пример – наш уважаемый Попов. Что снаружи, что изнутри – байбак, черт бы его подрал!
– Ну, нет. Не согласен, – возразил Грабов, не принимавший до того участия в споре молодежи. – Зависимость здесь может быть только случайная. Тут другое….
Грабов на минуту задумался. Лицо его стало строгим.
– Тяжелое горе, – снова заговорил он, – потрясло, выбило его из нормальной колеи. Он молчит, замкнулся в себе, откололся от товарищей и если не откололся от жизни совсем, то потому, что его связывает с ней большое и самое главное – борьба за свободу Родины. Пройдет время, жизнь возьмет свое, и Попов оправится, будет прежним, каким был. Помню, давно, еще в детстве, вблизи нашей деревни рос тополь. Высокий, стройный. Листья на нем были как серебряные. Все любовались им. И вот однажды налетела на деревню буря. Повалила, повыворачивала с корнями деревья, посрывала крыши с домов, поразметала по сторонам. Потом утихло. Смотрим – стоит наш тополь. Не сломала его буря. Только листка на нем не осталось ни одного. Так и стоял он голый, словно мертвый. А пригрело весной солнце, тополь снова ожил, об, рос молодой листвой.
Рассказ комиссара вызвал у летчиков несколько другую ассоциацию. Кто-то вздохнул, потом все заговорили о самом больном – об изувеченной войной родной земле. Оленин вспомнил свой город, Садовую улицу, когда-то утопавшую в зелени, представил ее, разрушенную гитлеровцами, с вырубленными кленами, и сердце его сдавила боль. Потом опять вспомнил Попова. Совсем недавно через станицу, где стоял полк, проводили пленных. Попов брился у окна. Когда колонна пленных поравнялась с их домом, он вскочил и как был с намыленным подбородком, так и выбежал на крыльцо. Суровые, никогда не улыбающиеся глаза его отливали холодной сталью. Сжимая кулаки, он что-то прошептал. Что? Оленин не расслышал, но теперь он понял, что комиссар прав: какую-то тяжелую драму переживал летчик. А через несколько дней ему неожиданно приоткрылась другая, доселе не известная сторона души этого человека. Оленин был свидетелем того, как Попов в столовой угощал обедом стайку станичных ребятишек. Откуда он их собрал столько – неизвестно. Но пока те расправлялись с дымящимся борщом, он суетился вокруг них, улыбаясь поглаживал вихрастые головенки мальчишек. В глазах его светилась отцовская ласка, огромная человеческая любовь. Открытие это несказанно обрадовало Оленина. В нем с новой силой вспыхнуло горячее желание сблизиться с Поповым, но сближения как-то не получалось. Отношения по-прежнему оставались холодными, официальными.
В необжитой, пахнущей хвоей землянке командного пункта было людно. Помощник начальника штаба капитан Рогозин, освещенный тусклым пламенем мигалки, что-то усердно писал. Кончив, он поднялся из-за стола, с шумом отодвинул табуретку и, многозначительно кашлянув, приколол лист к необструганному бревну стены. Сквозь тучи табачного дыма, висящего в землянке, Остап Пуля с трудом прочитал: «Курение запрещено окончательно». Взрыв общего хохота заглушил его голос. Это было уже шестое по счету объявление, вывешенное Рогозиным за сравнительно короткое время. После многих бессонных ночей корпения в прокуренной землянке над оперативными картами, сводками, графиками, шифровками в груди капитана по утрам начинало хрипеть. Как констатировал полковой врач Лис – «явление, возникающее от чрезмерного злоупотребления курением табака». Авторитетное заявление специалиста и побудило Рогозина заняться искоренением пагубной привычки.
За дверью землянки фыркнул мотор автомобиля, и Грабов, скрипя кожей реглана, вошел в помещение. Летчики поднялись, но он приказал им сесть. Переступая через ноги сидящих, комиссар прошел к столу и стал расстегивать планшет. С появлением в землянке его грузной и широкой фигуры помещение словно сузилось, стало еще теснее. Грабов не спеша вынул из планшета несколько писем, захваченных по пути с ППС [9], и, лукаво прищурясь, обвел взглядом лица летчиков. Все с выжиданием следили за ним. Глаза Грабова остановились на Оленине. Первое письмо было ему. Вскрыв его, Оленин углубился в чтение. Старательным стариковским почерком отец его, старый мастер, эвакуированный из Ростова, рассказывал о своей жизни на Урале, и Оленин снова почувствовал себя в родном доме, с его особыми звуками, особым смешанным запахом герани и крепкого чая, запахом, которым, казалось, были пропитаны даже листки письма. Второе письмо в розовом конверте было Рогозину. Всем было известно, что в таких конвертах письма приходили только капитану от его молодой жены. Не замечая завистливых взглядов, капитан отошел в угол и, как всегда, озаренный своим счастьем, распечатал конверт.
Борода писем не ожидал. По точным прогнозам полковых «стратегов», письма к Бороде начнут поступать не ранее будущей осени, после того как советские войска, форсировав Днепр, освободят правобережную Украину. Там, в селе Ковальки, осталась его мать – старая учительница. Воспоминания о ней всегда вызывали у летчика беспокойные мысли: «Как она там? Жива ли? Ушла ли с партизанами?».
Комиссар положил перед собой последнее письмо, сложенное треугольником.
– Это письмо без адресата. Написано: «Самому храброму летчику-гвардейцу». Решайте сами, кому его вручить. Достойных много… письмо одно, – улыбнувшись сказал он, разводя руками.
Летчики переглянулись. Кому на фронте не хочется получить письмо от девушки? Почему именно от девушки – никто этим вопросом не задавался, но все были уверены, что письмо это от девушки и обязательно красивой.
9
ППС – полевая почтовая станция.