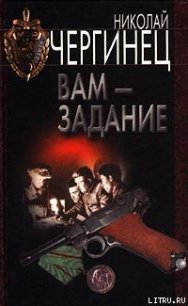Крещение - Акулов Иван Иванович (версия книг txt) 📗
— Мне хватит, — благодушно говорил Пушкарев, вытирая кулаком сальные губы. — И тебе, Охватов, хватит. Вы ему больше не давайте. Опьянеет — дело дойдет до командира полка: пиши трибунал и расстрел.
— Да что вы, товарищ старшина! Не дам я ему больше.
— До отбоя того-этого… о доме, о хозяйстве и все такое. А к отбою — в роту! Слышишь, Охватов?
— Так точно, товарищ старшина! К отбою.
Старшина взял опрокинутую на траве фуражку, надел, встал на ноги и, застегивая шинель, остановил затяжелевший глаз на женщине. Она перехватила его взгляд, смутилась и, взяв торопливыми движениями пару яиц и домашние стряпанцы, виноватая, сказала:
— Возьмите, товарищ старшина! Возьмите! У вас тоже дома жена…
— Нет уж, за это спасибо. Кормите вот своего. Видите, какой он?
Женщина все запихивала в карман старшинской шинели угощение, спрашивала:
— Отправка, товарищ старшина, как скажете, не скоро, а? Может, не скоро еще! Может, пока учат, и война кончится?
— Не знаю, дорогуша. Уж вот чего не знаю, того не знаю.
Отмякло заскорузлое старшинское сердце от этих стряпанцев, от певучего женского голоса, и не хотелось уходить с уютной поляночки, будто еще что-то могло перепасть у чужого тепла. Не торопясь полез в карман брюк, достал спички, закурил отложенный перед едой окурок и одной жадной затяжкой сжег его до губ.
— А скажу я вам, дорогуша…
— Ты его слушай, Шура, — попросил боец. — Ты его слушай: это наш самый больший командир. Как он скажет, так то и будет.
— А скажу я вам так: погорюете вы в солдатках до самой горькой слезинки. Каши на нас заварено сверх всяческой солдатской нормы. Вот так вот.
Ушел старшина нехотя: с трудом, видимо, рвал от сердца чужое липучее счастье.
— Ничего я не знаю, Ваня. По радио одно и то же: оставили, оставили, оставили. Как-то совсем безнадежно. Никогда еще так плохо не было. А раз уж совсем плохо, значит, тебе там место.
— Тут вот, в кустах, видел своего бойца с женой, — не отдавая себе отчета, зачем-то сказал Заварухин и, помешкав, добавил: — Такое все горькое, что глаза бы не глядели:
— А у самих-то у нас?
— О себе всегда думаешь с надеждой. Легче. Да и сам есть сам.
— В ружье! Выходи строиться с вещами!
Много ли вещей у бойца — винтовка да шинель. Построились. А дальше — хуже не придумаешь. Уже около вагонов Охватов нашел старшину Пушкарева, но подойти к нему под горячую руку не решился. А до домика, где остановилась Шура, более двух километров. И Охватов на свой страх и риск бросился в поселок. Маневровый паровоз, сновавший по станции, каждым своим вскриком пугал бойца, словно хватал за сердце, сурово предупреждал и звал обратно. Но Охватов бежал, оскальзываясь и оступаясь на грязной дороге, и не сразу услышал голос патруля.
— Стой! Стрелять буду! — прокричал патрульный и, коротко брякнув затвором, выстрелил.
Пуля в свистящем росчерке прошла совсем низко, и Охватов неосознанно присел, боясь шевельнуться и невнятно чувствуя, как похолодела, стала чужой кожа на голове. Из темноты вышли двое и, не дав Охватову толком распрямиться, заломили ему руки, больно ударили прикладом между лопаток и повели к станции. Никогда еще Охватову своя жизнь не казалась такой постылой и решительно ненужной.
— Дезертировать, гад?
— …Заячья твоя душа!
Охватов молчал всю дорогу, уже только у самых путей, сознавая, что ему все равно не поверят, и потому вяло сказал:
— Жена у меня в поселке. Хотел проститься.
У дощатого мосточка через канаву встретились еще двое, и в свете приближающегося маневрового паровоза патрульные и Охватов узнали командира полка подполковника Заварухина, который переводил по шаткому и ослизлому настилу маленькую женщину.
— Ну все, Музушка! Все. Иди. Не мокни больше. Иди, чтоб я был спокоен. Мне пора.
Женщина, всхлипывая, прошла мимо и растаяла в дождливой темноте. А Заварухин подождал, пока поравнялись с ним бойцы, остановил их:
— Что это?
— Дезертира поймали, товарищ подполковник.
— Какого полка?
— Отвечай, из какого ты полка? — крутанул заломанную руку Охватова патрульный.
— Из вашего… Что ты руку-то?.. — вскрикнул Охватов и перегнулся назад, чтобы облегчить боль.