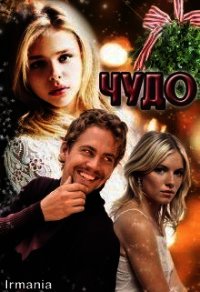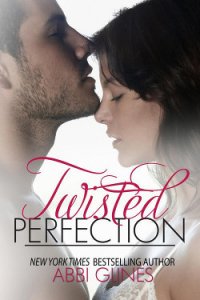Очень хотелось жить (Повесть) - Шатуновский Илья Миронович (первая книга txt) 📗
— Ну вот, теперь все в порядке, — похвалил Ростовщиков. — Почему же ты так медлил минуту назад? О чем думал? Что с тобой происходило?
Я не мог открыть своей тайны. Вести самолет левой мне было намного легче. Точно так же, как когда-то писать в детстве. В первом классе правой рукой я выводил какие-то каракули. Но когда учительница отворачивалась, я тут же перекладывал карандаш в другую руку. Не было ей труда разгадать мою хитрость. К тому же на помощь учительнице пришла моя мама. Дома, пока я готовил уроки, мама сидела напротив и смотрела. Я старался, как мог. Но буквы в моей тетрадке разбегались в разные стороны, перепрыгивая через кляксы.
— Ничего, — ободряла меня мама, — зато ты учишься писать правой.
Зачем заставляют детей писать неудобной рукой, я не понимал да и не понимаю до сих пор. За те годы, что я в слезах и муках перекладывал карандаш из руки в руку, я мог бы научиться играть на пианино или в совершенстве овладеть английским языком. А я все слушал и слушал в школе и дома: «Опять взял карандаш левой. Да сколько тебе можно говорить!» И лишь в четвертом классе, к величайшей радости мамы, я начал писать правой. Но все остальное делал левой: рисовал, чертил, резал хлеб, пилил, забивал гвозди, давал сдачи обидевшим меня ребятам, стрелял из пугача, снимал с керосинки чайник. И не чувствовал никаких неудобств. Даже гордился, что такие великие люди, как Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, Маяковский, были левшами.
Но что было теперь делать мне, курсанту-левше, когда все управление самолетом приспособлено под правую руку! Там, где требовались сила, ловкость, твердость, точность движений, мне приходилось орудовать левой. Попробовали бы ребята из нашего экипажа делать разворот слабейшей рукой! Много ли у них получилось, что бы им сказал Ростовщиков!
С того самого дня, как начались полеты, я решил упорно тренировать правую руку. За обедом ложка по привычке просилась в левую, а я брал ее правой. Есть было неловко, ложка норовила пройти мимо, борщ плохо попадал в рот. На волейбольной площадке у меня вдруг перестала получаться подача.
— Что с тобой? — шипел наш капитан Витька Шаповалов. — Простейший мяч не можешь перебить через сетку. А ведь игра — в зачет!
Я оказался у сетки при угрожающем счете 13:14, выхода не было — я срезал левой три мяча, наша команда все-таки выиграла. На аэродроме, ожидая полета, я незаметно уходил подальше из «круга» и швырял гальки. Бросок получался какой-то бабий — из-за головы.
Ну, а пока в моей полетной книжке в графе «Замечания инструктора» появлялись все те же записи: «Нет стабильности. Временами забываю об управлении, допускаю крен, не слежу за скоростью. Однако, когда захочу, делаю все, как надо».
«Когда захочу…» Это когда инструктор выходил из себя и кричал в переговорный шланг: «Мешок с соломой! Кусок дерьма! Слон в посудной лавке!» Тогда я брал управление левой. Ростовщиков успокаивался и, как бы извиняясь за свою грубость, говорил:
— Ну вот, теперь совсем другое дело. Молодец! Так и держи!
Так держать тоже было непросто. Регулятор газа помещался слева, я тянулся к нему правой, руки сплетались крестом, мешали друг другу, наполнялись тяжестью, быстро уставали. Я прекрасно понимал, что так далеко не улетишь. Нельзя же нелепо и неестественно вести боевую машину! Я увеличивал нагрузку на правую руку, по сто раз выжимал булыжник, на классных занятиях не переставая мял пальцами теннисный мячик. Я мечтал стать летчиком и был полон решимости добиться своего.
И вот когда однажды в полете инструктор закричал: «Крен, крен! Мешок с соломой!» — я схватился, как всегда, за ручку левой, но тут же почувствовал, что вести машину мне стало неудобнее, труднее. Я вернулся к прежнему положению и навсегда поставил левую руку на место — к рычагу регулятора газа.
И никто так и не узнал, что я одержал над собою огромную победу, я был безмерно счастлив оттого, что к решающему рубежу не отстал от своих товарищей. В экипаже я вылетел третьим, в звене — девятым. А самым первым во всей школе выпустили курсанта из нашего же звена. Случилось это совершенно неожиданно. Вдруг по аэродрому пронеслась весть:
— Курсант полетел сам! На «седьмой-белой»!
— Уже сам! Неужели? Как он успел?
— Вон, глядите, заходит на посадку!
«Седьмая-белая» приземлилась у посадочного знака, отколола легкого «козелка» и, замедляя скорость, подрулила к центральному кругу. Здесь уже были командир отряда Иванов, командиры звеньев, техники, свободные от полетов инструкторы других экипажей. Все размахивали руками, кричали, ничего нельзя было разобрать. Толпа курсантов побежала встречать нашего пионера. А пионер едва стоял на ногах. Был он растерян, ошарашен, страшно смущен. Не отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, глуповато моргал редкими рыжеватыми ресницами. Вида он был совершенно не богатырского: невысокий, щупленький, с тонкой, девичьей талией. В нем я, к своему удивлению, узнал того самого паренька, который в день принятия присяги от имени всех курсантов выступал перед строем. Значит, знали, кому давать слово!
Набежал фотограф, отогнал всех от виновника торжества, щелкнул затвором. А вскоре на большом щите у цистерны с питьевой водой появилась молния: «Горячий комсомольский привет курсанту Ивану Чамкину, совершившему первый самостоятельный вылет!» Под приветствием красовалась фотография.
А мы продолжали летать с инструктором. Правда, все чаще в полете Ростовщиков показывал нам свои локти, а в наших полетных книжках стали появляться такие записи: «Замечания инструктора. Нет».
Иван Чамкин, паренек из города Шацка Рязанской области, опередил всех нас только на четыре дня. А потом курсанты, точно оперившиеся птенцы, начали один за другим вылетать из родного гнезда. В нашем экипаже вылетел Абрам Мирзоянц, на следующий день Виктор Шаповалов: он поднялся в небо, опередив меня на двадцать минут.
Когда в передней кабине место инструктора занял командир отряда Иванов, я понял, что и меня выпускают. «Неужели считают, что пришел мой черед?» — похолодел я.
— Что ж, давай посмотрим, чему ты научился, — услышал я в «ухе» голос старшего лейтенанта. — Считай, что меня здесь нет. Все делай сам. Ты управляешь самолетом, а я при этом только присутствую.
Я вырулил на взлетную полосу. Получил разрешение стартера, дал газ. «Тринадцатая-белая» разбежалась и взлетела. Все выше и выше. Я прислушался, ожидая замечаний, но «ухо» молчало. Командир отряда, казалось, начисто забыл обо мне. Положив локти на бортики, он вертел головой да поглядывал вниз, точно там происходило нечто очень интересное. «Не похвалил бы вас за это наш инструктор Ростовщиков», — озорно подумал я.
Иванов достал из кармана конфетку. Обертка, шаркнув по моему козырьку, пронеслась мимо.
— Извиняюсь! — крикнул Иванов. — Не обеспокоил?
Ответить я конечно же не мог. Меня волновала отнюдь не конфетная бумажка. Я уже заходил на посадку. Посадочная полоса неслась мне навстречу искрящейся пестрой лентой. Я вспоминал потом, о чем я думал тогда, да так ничего и не вспомнил. Наверное, я просто ничего не думал, голова была абсолютно пустой, работали только руки. Мысли вернулись ко мне, когда я посадил «тринадцатую-белую» на все три точки. «Посадил, посадил!» — торжествовал я, сворачивая на нейтральную полосу.
Командир отряда показал мне знаком оставаться на месте, сам же спрыгнул на землю. К нему подбежал Ростовщиков. О чем они говорили, я не слышал. Потом в моей полетной книжке появилась такая запись:
«Проверка техники пилотирования. Осмотрительность: без замечаний. Руление: хорошо. Взлет: отлично, Набор: отлично. Разворот: хорошо. Маршрут: хорошо. Посадка: отлично. Общая оценка: отлично».
Но о том, что командир отряда поставил мне такую высокую оценку, тогда я не знал. Команды выходить не было, мотор «тринадцатой-белой» работал на малых оборотах. «Наверное, меня хотят выпускать», — подумал я. Ростовщиков что-то крикнул нашему мотористу Потапову, и тот побежал к центру «круга». Неужели мешок?