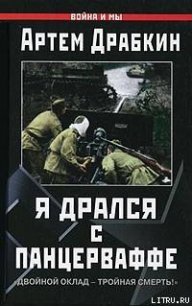Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942 - Драбкин Артем Владимирович (читать книги полностью .TXT) 📗
Подытоживая, скажу, что в начале войны на нас, конечно, морально давило превосходство немцев в воздухе. По уровню самолетов и точности стрельбы немцы все-таки были сильнее. Они летали свободно, а нас привязывали к определенному маршруту, изменить который мы не могли, превращаясь в мишени. Только ко второй половине войны мы уже стали ходить на свободную охоту. Свободная охота — это самые лучшие вылеты, ты летишь, ни к чему не привязан. Твоя задача — ловить ротозеев и стрелять. Ко второй половине войны во всех отношениях стало полегче.
— А если вернуться к вашей собственной первой встрече с противником. Мандража не было?
— Мандража как такого не было, хотя волнение было, конечно. Если ты замандражишь, то грош тебе цена. Здесь, наоборот, нужно проявить себя.
— А когда сами впервые сбили самолет, не было ощущения, что там сидят люди и ты их убиваешь?
— Ничего подобного не было. Мы видели, что фашисты бомбят нашу Родину, стреляют, убивают. Каждый знал, что надо их сбивать, и все. Причем в самолет стреляешь просто как в летящую мишень. Особенно, когда в тебе уже выработалось стремление сбивать. Если ты его не собьешь, то он собьет тебя или твоего друга. Значит, нужно сбивать его первым.
Иногда даже на таран хотелось пойти. Конечно, таранить немецкий истребитель на низкой высоте не было желания никогда, потому что без толку это, сам погибнешь. А вот когда мы на разведчика немецкого напали, того я пытался таранить. Это было в Вязьме осенью 41-го. Начали драться, он все выше, выше, залез на 7600, а я без кислородной маски: увлекся и забыл, что ее надо надеть. В этот момент из совхоза Дугино вылетела еще наша четверка. И мы уже не столько атаковали, сколько смотрели, чтобы друг с другом не столкнуться. Однако летчик на фашистском самолете-разведчике был, наверное, очень опытный. Представляешь, ему уже деваться некуда: высота набирается плохо, все больше наших самолетов вокруг. И что он делает? Поставил машину на ребро, внутренний двигатель убирает — хоп, и колом вниз. Никто не увидел, а я разглядел и понесся за ним. Открыл огонь, когда он выходил из пике. Потом смотрю — по мне очередь, чувствую, что попали: я же тогда прямо над ним оказался. Он прибрал газ, и я надвинулся на него. И уже подошла облачность баллов 7 — 8, высота 500 — 600 метров. «Ну, — думаю, — все, сейчас я тебя,… !» — прицеливаюсь, чтобы таранить. Подходим к Ярцеву. Он в облака, хоп, и все. Двух разведчиков я так упустил. Очень ругал себя за это.
Второй раз, когда мы одного так гоняли очень долго, он, фашист, моего ведомого подстрелил, так что у того мотор заклинило и пришлось садиться. А я продолжил погоню. Думаю: «Сейчас…» Видно уже было, что немецкий стрелок пулемет опустил. Значит, убили его и подойти свободно можно. Начинаю подходить, и тут на высоте 6000 метров облака. Фашист туда и сиганул…
— А первый свой орден вы когда получили?
— В Двоевке, когда уже сбил три самолета. Это был орден боевого Красного Знамени. К концу 41-го я уже стал командиром эскадрильи. С этим назначением, кстати, забавный казус произошел. До этого я был младшим лейтенантом. А когда назначили командиром эскадрильи, сразу дали старшего лейтенанта, и мне нужно было поехать в Москву. Но к тому моменту, как я поехал, мне уже присвоили капитана. И вот выписывают мне командировочные уже на капитанское звание. В других документах — старший лейтенант. А в удостоверении личности — младший лейтенант. Подъезжаю к Москве. Мне: «Ваши документы?» Даю. Смотрят, что-то не то. В одном документе младший лейтенант, в другом старший лейтенант, в третьем капитан. Задержали. Но созвонились, все стало на свои места.
Первый раз меня сбили под Сталинградом во время сопровождения штурмовиков на аэродром Гумрак. Как говорится, стреляют по «илу», а попадают по истребителю. Они хорошо отбомбились, но на отходе зенитный снаряд попал мне в кабину, пролетел между ног, сломал ручку управления и вылетел. Фонарь не разбил, поскольку мы их не закрывали зимой. В кабине тепло и влажно от дыхания, плексиглас запотевает и ничего не видно. Самолет загорелся. Скорость была у меня около 500 километров в час — мы со снижением шли. Высота — метров 400 — 500. Я отстегнул поясной ремень (плечевыми мы не пользовались), ногой толкнул обрезок ручки от себя, самолет клюнул носом и меня выкинуло из кабины. Не могу открыть парашют — зима, руки в перчатках не попадают в кольцо. Я зубами перчатку стянул, дернул, парашют раскрылся, когда до земли оставались считаные метры. Еще бы секунда — и хана. От динамического удара слетел один унт. Так я и приземлился в снег в одном унте. Мороз минус 40, ветер. Опустился и стою. Смотрю, тут разрывы, там разрывы. Мне пехотинцы кричат: «Ложись! Ползи сюда!» А куда «сюда» — кто его знает. Потом они догадались, что я не соображаю, куда ползти. На штык тряпку привязали и начали махать. Приполз туда к ним. Меня в окоп затащили и походам вывели, кровь течет. Осколком меня ранило в голову, но череп не пробило. Спас меня шлемофон, наушник.
Очутился я в передовом эвакогоспитале. Эх, насмотрелся! Представляешь себе, хирург ходит весь в крови, рукава засучены, а в них вот такой нож. Подходит к кому-нибудь: «Как, браток?» Тот: «Ой, больно». Хирург посмотрит и командует: «Побрить!» Побрили. Хирург ножом шмяк— отрезал то, что надо, и в таз. Кричит: «Сестра, бинтуй и отправляй». Он делает, делает, подходит, спирта хлоп, и опять пошел. Говорил, что вторые сутки не спит. Наступление, раненых полно, а замены нет. Я минут 20 сидел, ждал, пока меня осмотрят.
Вернусь к сопровождению штурмовиков. Дело это было нелегким. Ты как будто привязан. Чуть засмотрелся — группу потерял. На фоне земли их не видно. А сколько у меня было случаев, когда после штурмовки одна часть группы пошла налево, вторая прямо, а нас всего-то четверка или шестерка? И гадай, за кем идти. Потом приноровились. Я ставил пару слева, пару справа, которые шли метров на 300 выше группы штурмовиков, и если была возможность — еще пару на 1000 метров выше, если вдруг кто полезет. Но немцы на рожон не лезли никогда. Если видят, что есть самолет сверху, никогда не будут атаковать. На чем проще сопровождать «илы»? На «яке», конечно, проще, ведь он более маневренней, чем «лавочкин».
«Пешки» сопровождать проще. У них высота побольше. Строй они держат. На девятку бомбардировщиков могли дать восьмерку истребителей. Мы идем: пара слева, пара справа, а четверка сзади и выше. Немцы с нами не связывались, даже если и появлялись, ну и мы за ними не гонялись. Погонишься за ними, бросишь группу, можно и по шапке получить.
— Потери в ходе войны были постоянно: и в людях, и в технике. Как вводили пополнение?
— Когда в полку оставалось 5 — 6 самолетов, то небольшая группа летчиков оставалась на аэродроме, а остальные на Ли-2 летят в тыл. Скажем, в Саратов, где мы «яки» получали, или в Горький за Ла-5.
— А как летчиков присылали?
— Жаль нам было этих молодых ребят. Ну что они налетали самостоятельно, 5 — 6 часов в училище? Приходят, начинаем их вводить в строй. Это значит: отрабатываем технику пилотирования, взлет-посадка, пилотаж в зоне, потом проводим учебные воздушные бои. И только после этого по одному-два уже берем с собой на задания. И каждый знает, что за ними нужно присматривать. Хотя разные бывают ребята. Вот случай под Москвой был. Аэродром зимой укатали. Начальник батальона аэродромного обслуживания вместо катков, которых не было, использовал катушки, на которые кабель наматывают. В середину набил кирпичей, чтобы потяжелей были, и ими укатывал аэродром. Бороздил всю ночь. Эта полоса стала оранжево-красной от кирпичной пыли! Мне поручили руководить полетами: там взлет-посадка, принимать группу, а мою эскадрилью повел на боевое задание заместитель. И вот выпускаем молодого парня с Украины. Провезли его, проверили технику пилотирования и разрешили самостоятельно выполнить полет по кругу. Мы ему говорим: взлетаешь, делаешь первый разворот, второй, потом доходишь до третьего, а с четвертого заходишь на посадку. В общем все ему объяснили.