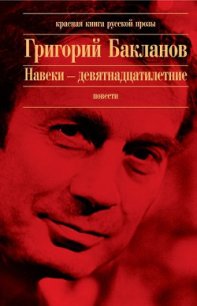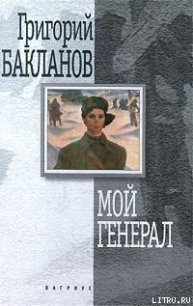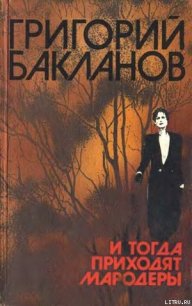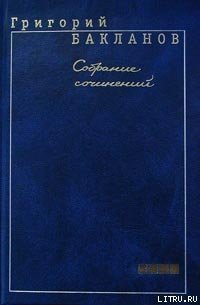Июль 41 года (с иллюстрациями) - Бакланов Григорий Яковлевич (книги хорошего качества TXT) 📗
Но Тройников строго глянул на него:
— Ты пулеметы мне уничтожь!
Над прижатой к земле пехотой разгорался артиллерийский бой, но так же, не медленней и не быстрей, садилось солнце, и во встречном свете его розовым светящимся дымом залита была низина, блестела трава и река, и когда на миг вскакивали и перебегали согнутые черные фигурки, вместе с ними вскакивали их косые тени. Пехота, краем своим зацепившаяся за немецкую траншею, опять поднялась, и еще несколько человек вскочили туда, но остальные залегли под огнем.
Жадно напиваясь табачным дымом, не отрывая бинокля от глаз, Тройников смотрел на левый фланг. Там сейчас начиналось главное. На левом фланге поднявшийся из болотной осоки полк Прищемихина форсировал реку. Перемокшие и продрогшие за день, они с берега посыпались в воду, расколов предвечернюю закатную гладь реки. Вплавь, вброд, неся над головами оружие, они спешили к тому берегу, шатаемые течением. Над вспененной, взбаламученной на всем пространстве рекой качалось множество крохотных черных голов и рук. Ударили было пулеметы с лугового немецкого берега, рассеивая пенные брызги по воде, но быстро смолкли: мокрый до нутра полк Прищемихина, бодря себя криками, невнятно доносившимися из-за реки, бежал по лугу наизволок. Поздно спохватившись, выручая своих, открыла огонь немецкая артиллерия. Редкие разрывы вскидывали вверх розовые на закате дымы. Ветром валило их и тянуло вверх по косогору. И туда же, вырываясь из-под разрывов, вслед за дымами, бежала пехота, обтекая деревню с фланга.
Положив планшетку на колено, на трепыхавшемся от ветра листке бумаги Тройников быстро набросал карандашом записку Прищемихину. Писал и взглядывал в бинокль. По самому лезвию горизонта в стрелах предвечерних лучей скакала крохотная артиллерийская запряжка. Над ней беззвучно взмахнул дымком бризантный разрыв. «Не достал!» — с сердцем пожалел Тройников. И, сложив записку, вручил связному:
— Скачи!
Еще пехота не вошла в деревню, но он видел: перелом наступил. Надо было, чтобы Прищемихин, не задерживаясь, оставив один батальон с тыла доканчивать бой за деревню, развивал успех, раньше немцев вышел на скрещение дорог и был готов встретить их там.
И тут случилось непредвиденное: залегший под огнем полк Матвеева вдруг поднялся в атаку. Повзводно, поротно люди подымались и шли, бежали с криком, падали, и снова какая-то сила отрывала их от земли. Ничего не понимая, Тройников в первый момент с восторгом смотрел, как они идут, красиво, гордо, не кланяясь пулям. Но вдруг тревога коснулась его. Он не сразу понял, что переменилось, только стало страшно смотреть, как люди идут на пулеметы.
С белым, исковерканным гневом лицом он схватил телефонную трубку, но на том конце провода, на КП полка, оставленный для связи телефонист отвечал, что командир полка Матвеев в ротах. И пока посланные Тройниковым связные под огнем бежали туда, бессмысленное истребление продолжалось.
А случилось вот что. Еще не видя со своего КП, что полк Прищемихина выходит деревне в тыл, Матвеев почувствовал внезапно, как немцы дрогнули. Их пехота за рекой, бежавшая к окопам, вдруг без видимой причины заметалась по лугу. Там спешно, жерлами в тыл, разворачивали пушки, какие-то повозки хлынули из деревни на луг, все перемешав. И уже после всего этого на гребне за деревней возникла редкая цепь. Тоненькие, плоские и черные в ломающихся лучах солнца, все одинаково наклоненные вперед фигурки двигались по гребню вверх, как мишени на стрельбах. По ним стреляли, но они всё двигались, и пули не поражали их.
И, увидя все это, почувствовав, как дрогнули немцы, Матвеев испытал мгновенную ожегшую его радость и страх. Страх, что немцы уйдут. Это же чувство владело сейчас его людьми, лежавшими на поле под огнем. Последний бросок оставался до немцев, и ничего не было сейчас сильней желания достать немца штыком. За раны, за убитых в атаке, оставшихся лежать на поле. И Матвеев отдал приказ, тот приказ, которого ждала пехота:
— Впере-ед!
Замполит Корниенко схватил его за руку, глянул зрачки в зрачки:
— Куда? На пулеметы? С ума сошел!..
Лицо смуглое, остроскулое, до желтизны бледное.
— Прочь! — закричал Матвеев, наливаясь яростью, и увидел своего адъютанта.
Адъютант смотрел на него с восторгом верующего. И, чувствуя необходимость чего-то необычного, чего сейчас ждали все, он оттолкнул Корниенко и выхватил пистолет:
— Я сам поведу пехоту!
Он бежал по полю с поднятым вверх пистолетом, огромный, яростный. Так он же возьмет деревню! Не Прищемихин, а он, столько положивший здесь людей.
— Впере-ед!..
Сухой воздух рвал ему горло. Сквозь пленку слез он видел радужный, расколотый на созвездия мир. И вместе с ним, с ним рядом, в едином крике, в едином дыхании, по всей низине, залитой розовым светящимся туманом, неумолимо и грозно накатывалась цепь, его пехота, его полк.
— Впере-ед!..
Он еще бежал вперед с раскрытым ртом, как вдруг почувствовал: оборвалось что-то, соединявшее его с людьми. Он гневно оглянулся, по всему полю лежали в траве бойцы, живые среди мертвых. И только адъютант с насмерть бледным лицом, весь странно кренясь, спотыкаясь, бежал к нему, зажав рукой бок.
И еще не веря, надеясь еще, а вместе с тем уже чувствуя весь позор, всю жуткую непоправимость случившегося, готовый в этот момент кричать, стрелять, бить, Матвеев пытался поднять залегшую пехоту. Какой-то боец рядом с ним каской, ногтями скреб землю, зарываясь в нее. Матвеев ударил его сапогом в бок. Боец вскочил. И еще несколько человек вскочили на ноги. Только одно могло сейчас оправдать и жертвы, и кровь, и смерть — победа. Вот она, деревня, вот она рядом… И Матвеев, крича, стреляя вверх, поднял в атаку людей. И с близкой дистанции, в упор, в живот, в грудь ударили по ним пулеметы.
Дрогнувшие было немцы, готовые уже бросить позиции, спасаться за рекой и бежать, пока не замкнулось кольцо окружения, увидели бегущую на них пехоту. Это накатывалась смерть. От нее нельзя было спастись бегством, в поле она настигла бы их. И они сделали то единственное, что могли сделать, на что толкал их опыт, страх, желание жить: они встретили ее из окопов пулеметным и автоматным огнем.
На узком пространстве приречного луга, каждую весну заливаемого водой, где прежде паслись гуси, в третий раз поднялась в атаку пехота. В третий раз вел Матвеев свой полк на пулеметы. И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему ни прощения, ни пощады, эта пуля, не миновавшая стольких, словно сжалившись, нашла наконец и его.
ГЛАВА VI
Пленные немцы, человек тридцать, сбившись кучей, стояли посреди улицы, а вокруг толпились красноармейцы и всё новые подбегали глядеть на них. Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу дымчато-серых хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых все они словно выросли, в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких пилотках — был отталкивающе резок. Немцы глядели исподлобья, с потаенной тревогой, иные со страхом. И все им сейчас было лишним, все, что привлекало внимание к ним. Особенно руки, в которых они недавно еще держали автоматы и стреляли по этим толпящимся вокруг них людям, в чьей власти теперь была и жизнь их и смерть. Руки особенно хотелось им сейчас скрыть, и Гончаров это почувствовал. Он видел, как один немец нагнулся и быстро, стараясь, чтоб не заметили, выкинул оставшуюся за голенищем плоскую автоматную обойму. Другой, рядом с которым она упала, отпихнул ее каблуком.
До сих пор Гончарову случалось видеть одиночных пленных, как правило, тщательно охраняемых. Когда их вели или везли куда-то, они, уже успевшие оглядеться, и покурить, и понять, что немедленная расправа им не грозит, вели себя, как правило, нагло. Эти же были только что выхвачены из боя. Неотдышавшиеся, в поту и пыли, многие с еще не погасшими глазами, они стояли посреди улицы, согнанные толпой. Гончаров с щемящим холодком любопытства вглядывался в их лица. Крайним стоял офицер в высокой фуражке, в хромовых по колена сапогах с твердыми голенищами, небольшой, бочкообразный, в пенсне. Прямоугольные подрагивающие стеклышки их вспыхивали прожекторным блеском, он оглядывался вокруг себя веселыми, навыкате, наивно-глупыми глазами, не сомневаясь, что русским чрезвычайно интересно видеть его, германского офицера, и он давал им эту возможность. Привздернув руки в локтях, он поворачивался, показывал себя, словно его сейчас должны были фотографировать. Свежеподстриженные виски его под фуражкой и выбритое лицо лоснились, и Гончаров на расстоянии почувствовал от него запах одеколона и пота. Он не сообразил, что так далеко он не мог бы чувствовать запаха. Одеколоном и потом пахло от старшины, стоявшего впереди, но зрительное впечатление подстриженного и выбритого немца настолько слилось с запахом, что обычный тройной одеколон, с которым сам он не раз брился, показался ему сейчас специфически немецким и его чуть не начало мутить.