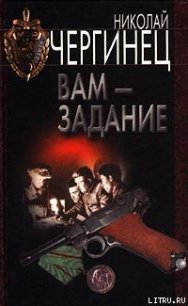Крещение - Акулов Иван Иванович (версия книг txt) 📗
— Отставить песню, — скомандовал взводный и, утянув живот, ударил сапожищем. Ударил и взвод на всю ступню — дорога крякнула, покачнулась, тоже пошла вроде.
— Вольно! Вольно, лейтенант! — улыбнулся подполковник и сказал что-то стоявшим рядом с ним.
Охватов поглядел на аккуратно одетых, подтянутых командиров и неприятно почувствовал песок на своей мокрой спине.
— Запевай! — гаркнул взводный, по люди уже потеряли прежний настрой и лишь в самом лагере, увидев на линейке другие, ранее пришедшие взводы, рявкнули строевую.
В расположении довольный лейтенант похвалил за песню и распустил взвод. Расходились с сознанием хорошо и надежно сделанного.
Весело загремели котелки и кружки, каждого вдруг обнесло запахом варева и сухарей, хотя до столовой надо было еще шагать да шагать.
После обеда отделение Охватова готовилось к наряду на кухню. Это было самое заветное дежурство, и бойцы готовились к нему как на праздник.
Охватов чистил песком пуговицы гимнастерки, когда к нему подошел Малков и шепотом известил:
— Вчера из рабочей команды какой-то тягу дал.
— Как это? — растерялся Охватов.
— Вот так это, дезертировал. На розыски, говорят, комендантский взвод ушел.
— Я знаю его, с большим таким жабьим ртом…
— Запомни: о гаде ты слышал и не слышал… С кухни принеси чего-нибудь пожевать.
Охватов близко поглядел на Малкова и увидел, что всегда мягкое, розовое лицо его сделалось жестким, шершавым, щеки опали и грубо, по-мужски выточились скулы.
— Завтра наедимся, — с готовностью заверил Охватов и, оставшись один, все думал и думал о своем напарнике по работе и успокоился только тогда, когда усомнился: «А может, не он? Обязательно он, что ли?»
На кухне Охватов сам вызвался чистить огромные, тысячелитровые котлы. Его одели в застиранный и промасленный костюм, дали деревянные башмак, скребок, и он жарился в котлах, отскребая пригарь. К вечеру у него разболелась голова, затекла весь день согнутая спина, зато под крыльцом кухни стоял накрытый крышкой полуведерный бачок рисовой каши. Это Охватову дал старший повар за ретивую работу.
После дежурства Охватов с Малковым скрылись за поленницей и торопливо припали к еде.
— А сам перед лейтенантом из шкуры лезешь. На носочках тянешься.
— Это же учеба. Пот дешевле крови. Вы, хлюпики, жалуетесь на лейтенанта — загонял. Не я на его месте. Я бы вам все гимнастерки солью выбелил.
— Не пойму вот, Петька, откуда у тебя столько злости?
— И не поймешь, потому что ты раб, Колька. И душа у тебя рабская. И оттого, что душа у тебя рабская, в России дольше всех держалось крепостное право.
— Друг ты мне, Петька, и не могу я тебе не сказать. Помешкать бы нам на фронт.
— От нас, что ли, это зависит?
— Не от нас, конечно. А вообще. Понимаешь, Петя, гоняют нас с утра до ночи как бобиков, и некогда подумать даже. А подумаешь — кругом ерунда выходит. Ты говоришь: на фронт. А зачем мы там? Что мы сможем? Три месяца воюем, сколько отчаянных голов полегло, а что толку в их смерти? Ты, Петя, только не сердись, давай поговорим без лая.
— Ну без лая. Хорошо, без лая так без лая, — легко согласился Малков, но отодвинулся от бачка и в злом спокойствии повторил: — Давай без лая. По-твоему, те, что погибают под немецкими танками, погибают ненужной смертью? Так, да? Слушай, я не могу говорить с тобой спокойно. Не могу… Ты же знаешь, что немцы в своих планах на войну с нами отвели всего две недели. Две не-де-ли. А воюют? Три месяца. И будем бить их три, шесть, двенадцать месяцев, пока всех не выхлещем. И они нас порубают, не без того. Так разве можно назвать смерть нашу глупой? Конечно, не так все думалось! Не так. Но если уж брать в больших масштабах, так ведь и немцы не этакой войны ждали. Жизнь вносит поправки. Мыслить надо, Колун! А вообще, Колька, вредный ты человек.
— И враг народа.
— Если хочешь, и враг. Какой тебе смех-то? От твоих разговорчиков плесень на душу садится. Ты как ржа. Точишь душу. Поговорю с тобой, какая-то слизь в душе остается. Не знал бы я тебя, Колька, так и съездил бы тебе по мусалу.
— В том, что у нас в России дольше всех держалось крепостное право, виновны такие вот, как ты, что за одно слово глотки людям рвали. Тоже мне: «враг», «душу точишь»! Тонкая, выходит, душа твоя. Источится — туда ей и дорога. Пошли в лагерь. Скоро поверка.
— Как я хочу попасть скорее на фронт да вместе с тобой в одну роту, чтоб поглядеть: кто же ты есть на самом деле? Я с тебя глаз не спущу, философ!
Малков, не дожидаясь Охватова, почти выбежал из-за поленницы и, спотыкаясь в сумерках, заторопился в лагерь. В прохладном вечернем лесу было неуютно и тоскливо. Хотелось выйти на открытое место и увидеть закат, сумеречное небо в редком высеве звезд. Малков впервые со стороны прислушался к лагерной суматошной, никогда не затихающей жизни, и ему почему-то вдруг стало легко и бодро. Почему? Отчего? Он не мог объяснить себе. А справа, и слева, и впереди, и даже, казалось, наверху — везде пели роты, пели какие-то деревянные, горловые песни, с присвистами и повторами. По размешенным, непросыхающим дорогам чавкали, грохали, стучали колесами неуклюжие повозки, кричали, матерились верховые и ездовые; из-за Шорьи, с вытоптанных лугов, доносилось нестройное «ура», холостая перестрелка и уже совсем жалкая россыпь деревянных трещоток. На ротных линейках дневальные ожесточенно били в пустые гильзы, обрезки рельсов и вагонные буфера. «Лупят — кто громче», — подумал Малков и вдруг остановился, пораженный широкоголосой, легко поднятой песней, в которой билась и звенела живая человеческая душа:
— Может, закуришь с устаточку? — Сняв с головы пилотку, достал из-за отворота ее чуть помятую папиросу и протянул Охватову: — Держи давай. Сам-то! А я не охотник до них. Я их и дома не курил. Так уж когда, на гостях, скажем, или в праздник. А то все махру жучил. Она ядреней.
Оттуда же, из-за отворота пилотки, Урусов для себя достал окурок самокрутки, подклеил его кончиком языка, прилепил к губе и чиркнул спичкой. Огонек в пригоршнях сперва поднес Охватову.
— Днем сегодня, — Урусов сладко затянулся и струей дыма погасил спичку, — днем сегодня комиссар полка приезжал на стрельбище, а я возьми да гаркни: «Смирно!» Он, комиссар-то, похлопал меня по плечу да и говорит: на стрельбище-де команда «Смирно» не подается. Черт те что, сколь, видать, ни служи — все равно всей службы знать не будешь! Вот и учи нас. Я о комиссаре-то говорю. Сел с нами комиссар на дерновину и распахнул свой портсигар — бери, кто курит. Мигом опустошили портсигарчик. И я взял. Думаю, угощу Охватова. Наломался небось за сутки-то? Ты ведь сачковать нетороват. Что потрудней, то и твое.