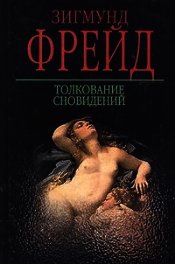Ноль часов - Веллер Михаил Иосифович (е книги txt) 📗
Не успели тронуться — заморосило. Под надвинутым кожаным тентом сделалось необыкновенно уютно. Это напоминало детское ощущение от пересиживания дождя в самодельном балагане. Только этот балаганчик покачивался и плыл над вонючими автомобилями.
— По бульвару поедем или через Манежную? — спросил извозчик.
— А как быстрее?
— А так на так выйдет. Вы не против, если я бороду сниму? Чешется после ночи.
Он стащил бороду вместе с усами, закрепленную на резинке под шляпой, и оказался интеллигентным человеком с усталым изжелта-серым лицом. Поскребся и удовлетворенно покряхтел.
Лишенное маскировки, теперь на его лице открылось выражение горького и неуверенного достоинства, которое в девяносто втором году навсегда приобрели бывшие работники умственного труда, каковой труд был не столько умственным, сколько необременительным и сносно оплачиваемым оплеванной соввластью. В соответствии с этим выражением, он недолго искал поводов к разговору.
— Порядок прибыли наводить, авроровцы? — спросил он с маневренной усмешкой, которую одинаково удобно и правильно обернуть как иронией над собеседником, так и солидарно взывающей к собеседнику иронией над предметом разговора.
— Почему вы решили, что мы с «Авроры»? — польщенно изумился Ольховский, стряхивая пепел с сигареты Неловко так, что его задуло ему в рукав. — Что, уже знаете?
— А что тут знать, — извозчик кивнул на матросов. — На лентах у вас что написано — или это внутривидовая мимикрия?
Я устал, подумал Ольховский. Черт, что такое мимикрия — приспособляемость? Чертов город с академиками на козлах.
— Вы раньше кем работали? — спросил он, и через пять минут проклял свою вежливость: у извозчика произошло недержание речи. Всю ночь он искал седоков и выслушивал их похвальбу, критику, деловой жаргон и поучения, а разговаривать с лошадью он считал литературным плагиатом ниже своего достоинства.
Он был биологом, он был доцентом, он принадлежал к боковой ветви рода Вавиловых, а теперь он работал в зоопарке, брал в почасовую аренду лошадь с повозкой, армяк и бороду купил на распродаже бутафории обанкротившегося театра, и если бы не спонсорство Greenpeace'a, подох бы с голоду вместе с семьей и лошадью, потому что овес нынче дорог, а от хлеба у лошади болит живот.
— Вот четыре дня назад катал ночью одних, в туалет мне понадобилось, у Белорусского вокзала остановил, я не могу как-то на тротуаре, знаете, мочиться, возвращаюсь, так они ведро у уборщицы взяли, водки туда налили, пивом развели и напоили. Она как рванет с места, ржет, еле остановил, а она встала тогда, головой мотает и плачет, вот такие слезы из глаз катятся. А они хохочут, вот, говорят, русская душа, или вскачь, или в слезы. Это что, люди, я вас спрашиваю? Ну что, можно с такими людьми жить?
— А что ж вы ночью работаете?
— А днем она занята.
— Чем?..
— А днем ее другой арендует, ветеринар. Он раньше меня устроился, так что мне только ночь осталась.
— Так она ж подохнет!
— Типун вам на язык, — сказал доцент-извозчик и перекрестился.
— АО чем зоопарк-то думает?
— А он с аренды, что я ему плачу, корм для животных покупает. Лошадей много, а львы дороги… им мясо нужно.
Ольховский вытянул из кармана шинели сложенный пополам красный пакет и посмотрел на него. Он собирался вскрыть его в каюте. Вскрывать секретный пакет с боевым приказом в баре не подобало. Как, впрочем, и на извозчике. Но выпив, продышавшись и придя в себя, он отметил совершенное нежелание гвоздить по целям Генштаба (или кого бы там ни было) в Москве — пусть сумасшедшем городе, но в сущности заслуживающем жалости. Кроме того, было ясно, что в этом случае он становится крайним, и его головой пожертвуют в первую очередь.
Он зубами оторвал угол необыкновенно плотной неподатливой бумаги и разодрал пакет по краю.
В нем оказалась сложенная в восемь раз карта Москвы, отпечатанная в одну краску четким угольным штрихом. Она пестрела красными значками. По верху крупным твердым почерком значилось:
«Схема минирования ключевых объектов г. Москва». Вкось левого угла — резолюция: «Утверждаю». В правом: «Ответственный». Подписи неразборчивы. Внизу стояла дата: #77 октября».
На приложенных одиннадцати листах шел перечень зданий, электростанций, водонапорных станций, радиостанций, железнодорожных станций, продовольственных складов и мостов. Против каждого пункта указывался расход взрывчатки.
Пожевав губами, Ольховский пробормотал:
— Ну, это уже слишком. — И откинулся на сиденье.
Шурка присвистнул.
— Ох да ни хуя себе… — протянул перегнувшийся Бохан, капая из носу на красный треугольничек у Большого театра.
Посовещались. Действительность превзошла их скромную мечту. Как часто бывает в военных верхах, им дали не тот приказ. Наказание должно было последовать как за невыполнение своего, так и за осведомленность о чужом. Выход?
«Слыхал я об этом… да не верил», — похлопал Ольховский по карте.
— Есть закон, — сказал Шурка. — Опасную информацию — сбрось. Тогда ты будешь уже никому не нужен.
— На телевидение надо, чтоб передали, — предложил Бохан.
Шурка захохотал. Ольховский поморщился.
— Извозчик! Гони в Думу!
— Точно! Там ор поднимут!
— Ксерокс надо снять на всякий случай!
— У них прямо там ксероксы должны быть.
— Вообще охренели — весь город взрывать…
У главного подъезда Думы в Охотном уже собралась обычная мелкая демонстрация — с парой невнятных лозунгов и неразборчивыми призывами. В дверях то и дело показывались два-три молодца в малиновых пиджаках: они выносили на руках очередного сопротивляющегося мужика. На «раз-два-три» его, качнув, по дуге пускали на тротуар. Дрыгнув лаптями, мужик шлепался, поднимался, ощупывая поясницу, и отходил отряхиваться в сторону, освобождая посадочную площадку для следующего. Иногда мужик случался дороден, в расчищенных сапогах и с ухоженной бородой; такого обычно спускали тычком взашей и пинком, и он шлепался на брюхо, а ближайший из демонстрантов подавал ему откатившийся картуз.
— И это вы называете демократическими выборами! — не слишком громко, с опаской, выкрикивал худой мужик в рваном зипуне, с медным крестом поверх.