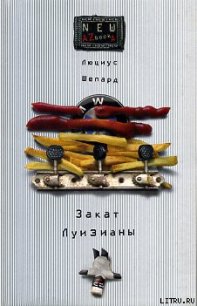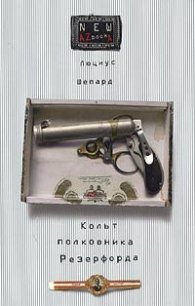Жизнь во время войны - Шепард Люциус (книги онлайн полные версии бесплатно txt) 📗
– Бомба? – воскликнула Дебора. – В Панаме... бомба?
– Да, – подтвердил бармен, он был старше других, в волосах седые пряди. – Атомная бомба. Ужасно.
– Должно быть, очень маленькая, – сказал кто-то. – Пострадало только одно баррио.
– Но в других тоже народ погиб, – возразил третий. – Кто это сделал?
Минголле стало плохо от новостей, они давили на него своей тяжестью.
– Я ищу одного человека, – проговорил он наконец, – большой и черный, зовут...
– Сеньор Тулли, – подхватил бармен. – Приехал сегодня утром. Следующий поворот налево, он будет в третьем доме по правой стороне.
Минголла с минуту послушал, как голос в телевизоре расписывает подробности катастрофы, весь кошмар Карлитовой кары, вспоминает кару Тель-Авива, – такой иронии Минголла, кажется, не ожидал. Выйдя из бара, он увидел сидевшую на капоте Дебору.
– Тулли здесь, – сказал он. – Может, он знает, что произошло.
– Я без него знаю, что произошло, – воскликнула Дебора. – Исагирре взорвал всех к ебене матери! – Она спрыгнула с капота и отфутболила комок красной земли. – Я вела себя как последняя идиотка. Нельзя было им верить! – Она отошла на пару шагов и резко повернулась к Минголле. – Мы перестреляем всех, кто еще остался! Иначе они перестреляют нас. Эти твои сны, видения будущего... наверное, они правильные. Я раньше не понимала, зато теперь все становится на места.
Ее злость поразила Минголлу больше, чем само известие о бомбе. Дебора готова была взорваться, она размахивала автоматом, словно выискивая подходящую цель.
– Пошли к Тулли, – приказала она.
Пока они шагали, он наблюдал за ней уголком глаза, видел ее гнев... нет, не гнев, скорее убежденность, из ее глаз уходили слабость и тревога, эта женщина становилась еще красивее, чем прежде.
В ее лице, в его ясной суровости Минголла видел все безумие их связи. Один толкает, второй тянет. Как далеко может их завести ее жажда убежденности и как его гнев будет поддерживать их до тех пор, пока она не отыщет новую веру. Они питают этот обман и зовут его любовью. А может, он и есть любовь, может, безумие подразумевает любовь. И даже понимая все это, он любил ее, любил их любовь. Любил до той точки, где отторжение становится немыслимым. Чтобы отвергнуть Дебору, он должен перестать любить себя, и если в другой обстановке Минголла сделал бы это без капли сомнения, то сейчас подобная честность была просто непозволительна.
Тулли сидел перед домом, держа на коленях автомат; когда они подошли, помахал рукой – вялое, бескостное движение.
– Молодец, Дэви, – сказал он слабеющим голосом. Глаза налиты кровью, а сам он до предела истощен и вымотан.
– Где Корасон? – спросил Минголла.
– В доме, – ответил Тулли. – Наверно, поймала дозу. Наверно, я тоже.
– Радиация? – Минголла виновато вздрогнул.
Тулли кивнул.
– Вы вроде выбрались чисто.
– Что там было? – спросила Дебора.
– Черт их знает. Началось во дворце, я так и не понял что. Весь день сплошные драки. Знай молотят друг друга. Прямо на улицах. Мы с Корасон целый день чего-то ждали. Я так и не понял. Наверное, заряд артиллерийский или чего-то вроде, а то бы нас по стенке размазало. – Он закашлялся, вытер рот, посмотрел на руку, что там такое. – Мы поехали вдоль берега и вот забрались. А вы, наверное, блудили в тумане.
– Ага, – подтвердил Минголла.
Тулли задохнулся и приходил в себя так долго, что Минголла испугался, что это уже навсегда.
– Друг, – сказал Тулли, – я тут все думал, может, будет лучше, а теперь, – он стрельнул в Минголлу взглядом, – что-то душит, Дэви.
– Тулли, я...
– Вали отсюда, Дэви. Не надо мне этой херни про то, как тебе меня жалко и про старые добрые времена. Раз так вышло, ничего не попишешь. Не самое плохое место для похорон. – Он рассмеялся и от смеха закашлялся. Потом пришел в себя и заговорил снова: – Знаешь, что делают эти дураки – мажут тело лаймовым соком, заворачивают в белые тряпки и поют над ним песни. Лаймовым соком! Они думают, он на все годится. От дизентерии, от простуды и для Христа тоже, ему понравится. – Тулли пошевелил автоматом. – Идите вон туда. Этого ручья на карте нет, увидишь в конце улицы. Ищите тропинку от берега. По ней на восток через два больших холма как раз попадете в деревню, я тебе рассказывал.
Минголла боролся с желанием ляпнуть какую-нибудь глупость, например что они останутся здесь. Именно этого подспудно хотел Тулли, и хуже всего было бы пойти у него на поводу. Минголла позволил себе сказать лишь:
– Я буду скучать без тебя, Тулли.
Затем развернулся, оставив Дебору позади и не желая ни ответа Тулли, ни новых знаний, ни мук совести. Но, проходя мимо окна, он услыхал щелчок предохранителя. Минголла перекатился через плечо, автомат застрекотал, пули пролетели мимо, он упер свой автомат в окно и за короткий миг до того, как открыл огонь, разглядел Корасон: пустое лицо, ни единой эмоции, налитые кровью лепестки глаза. Пули отбросили ее от окна и выдавили из груди тяжелый хрип.
Он неуверенно поднялся. Дебора направила автомат на Тулли, тот пытался встать, но у него плохо получалось. Минголла подошел к окну, всмотрелся в темноту комнаты. Корасон отбросило к кровати, распластало на белом покрывале, темные угловатые тени и алые пятна крови рисовали на нем абстрактный узор. Автомат валялся на полу. Тулли проковылял в комнату и застыл пораженный.
– Что?! – закричал он. – Что ты наделал?!
– Она в меня стреляла, – сказал Минголла. – У меня не было выбора. Я не успел даже подумать.
– Зачем ей в тебя стрелять!
Тулли упал рядом с кроватью на колени, руки парили над телом Корасон, кровь еще текла у нее изо рта, из груди, и казалось, Тулли просто не знает, куда пристроить руки, какую прикрыть дыру.
За спиной у Минголлы послышались голоса. Он обернулся – Дебора объясняла, что произошло, собравшимся на выстрелы мужчинам. Снова обернувшись к окну, Минголла увидел, как Тулли поднимает автомат и прижимает его к груди.
– Будь ты проклят, Дэви! – воскликнул он. – Души у тебя нет, и не было никогда.
– Послушай, – сказал Минголла. – Она чуть меня не убила. Что еще мне оставалось делать?
– Зачем ей тебя убивать, черт побери? – Тулли трясся, палец дрожал на курке. – Какой смысл?
– Я не знаю, друг. Может, кто вложил ей что-то в голову специально... или она просто свихнулась от болезни. Откуда мне знать?
– Ты хочешь сказать, что она такая, как все эти пустые коробки, в которые Сотомайоры накачивают свое говно? Даже не думай! Я ее знаю. Она не такая!
Минголле вдруг захотелось, чтобы Тулли нажал на курок и неопределенность кончилась.
– Что мне было делать? – закричал он. – Ждать, пока она меня убьет? Чтобы ты потом причитал над моим трупом? Херня, старик! Хочешь стрелять – стреляй! Ну! Хуярь курок! Может, в твою мудацкую голову вбили то же самое. Может, вся эта херня про Трес-Сантос тоже сотомайорское говно! – Он прижимался грудью к окну и отталкивался от него, словно дразня Тулли. – Стреляй, ну!
– Думаешь, не выстрелю? – крикнул Тулли. – Я одного себе не прощу – что это я тебя таким сделал.
Вместо Тулли Минголла теперь видел черную тень, творение тьмы, пустоту ненависти, пустоту с мускулами, потным лбом и налитыми кровью глазами.
– Хуй с тобой, Тулли, – сказал он и, собрав весь свой гнев в поток ядовитой энергии, заставил Тулли завертеться волчком. Автомат разрядился. Бессмысленные слепые выстрелы буравили потолок, стены, пол. Тулли хотел выставить автомат в окно, уронил его, схватился за голову, зашипел, и шипение обернулось криком. Упал на кровать, перекатился на бок, пальцы дрожали на висках, словно он силился затолкать мысли обратно в голову, но они лезли наружу, вспухая гневом у него под черепом. Затем все кончилось. Мигнуло и опустело, слепые глаза уставились на стену и на черный деревянный крест – словно щель в страну темноты.
Минголла плакал. Он знал это по тому, что мокрым стало лицо, еще по каким-то знакам, но ничего не чувствовал. Слезы были излишеством – как если бы от переполнения в нем просто открылся кран. Минголла отвернулся от окна, и маленькие кривоногие человечки отодвинулись подальше; они смотрели безразлично, не выказывая ни страха, ни каких-либо еще сильных эмоций. Ничего интересного, понял Минголла, они не увидели. Слезы и убийства были для них рутиной, и, не вникая в ситуацию, они понимали, что дело их не касается; слез и смертей им хватало собственных, к чему разбираться в несчастьях чужих людей и тем более влезать в их моральные заморочки. Все это Минголла прочел на их лицах, все это понял, оценил и даже восхитился.