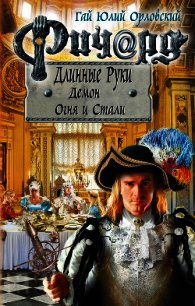Прощание - Смирнов Олег Павлович (читать книги без txt) 📗
Будыкин двигался на северо-восток, не подозревая, что идет точно по направлению к лагерю. Если бы он вышел на просеку, затем на проселок и затем к гравийному шоссе, то выбрался бы в места знакомые. А эти ему были незнакомы. Может, и бывал здесь, да не запомнил. Нечего скрывать: на местности он ориентируется не как бог. Не как бывшие пограничники, тот же Скворцов, тот же Лобода, – эти, что тебе день, что ночь, нигде не заплутают. Служба у них такая была, приучила. Вышел бы Будыкин, выбрался бы, если б не натолкнулся на лесную сторожку. Она предстала вдруг из-за деревьев: избушка на курьих ножках, столбики подгнили, дверь покосилась. Накрененная труба курилась, Будыкин втягивал раздувающимися ноздрями запах дыма, в котором чудился запах кулеша. Заходить? Не заходить? Собаки не видать, хозяев не видать. Понаблюдав, Будыкин так и не решил, как же поступить. Сунешься, а там германцы либо полицаи. А может, там хозяева навроде Тышкевичей, так что же не заглянуть? Перекусить, передохнуть, обсушиться, порасспрошать про дорогу. Дверь провизжала ржавыми петлями, на порожке – женщина в телогрейке, Будыкин отметил: старая. Это хорошо. Хорошо, что баба, бабы не так злы, как мужики. Значит, в сторожке есть хоть одна добрая душа. Добрая? Не выдаст, не продаст?
– Мамаша! – позвал Будыкин.
Старуха разогнулась, откинула седую прядь с лица. Стараясь вкраплять украинские слова, которые знал. Будыкин заговорил: нельзя ли зайти на минутку, непогода, неблизкий путь, устал.
– Заходи, сынок. – Хозяйка посторонилась, пропуская Будыкина, вошла следом. Он огляделся: в комнате никого. – Одна живу.
Засекла, как он оглядывался. Ну, и что? Будыкин сказал:
– Можно присесть?
– Садись к столу, сынок. Покормлю.
Хозяйка смахнула тряпочкой со стола, поставила миски, тарелки, кастрюлю с борщом. Будто поджидала к обеду Полю Будыкина. У него потекли слюнки.
– Сними сапоги, сполосни руки.
Он скинул керзачи, отнес их к порогу, она дала ему шлепанцы. Полила над тазиком, протянула рушник.
– Самогону выпьешь?
Налила ему стакан, себе на донышко. Он сказал:
– Спасибо, мамаша.
– Пей, сынок. Чтоб дома не журились. Далёко дом?
– Далёко, – сказал Будыкин, едва не задохнувшись от первака. – Аж возле Курска.
– Занесло тебя, сынок, от родных краев… Мой сын, мой Стась, тож в армии и тож далёко от родины. В' Гатчине перед войной служил, под Ленинградом. Что с ним? Может, как ты, мотается по лесам. Может, и убитый. Война же…
Будыкин деревянной ложкой хлебал борщ, – не кулеш, – но тоже здорово, – хмелея от него не меньше, чем от самогонки. И думал: попал к матери красноармейца, эта не продаст, не выдаст. Но сколько ей лет? Не старуха, раз сын в Красной Армии, а выглядит старухой. Жизнь, наверно, была несладкая. Так и есть. Хозяйка говорит напевным, молодым голосом:
– Муж у меня и старший сын, Ивась мой, погибли в тридцать девятом. Работали кондукторами на железной дороге. Немцы разбомбили ихний поезд под Варшавой… А после пришли Советы, и Стася забрали в Червону Армию…
Забывшись, когда и выпивал, Будыкин опьянел. В отряде, при командире Скворцове, не разольешься, на операциях и в рейдах по селам тоже не выдавалось заложить за воротник. Теперь можно. Он потянулся за бутылкой, самогон забулькал в граненом стакане. Хозяйка.сказала:
– Не хватит ли, сынок?
Конечно, хватит. Но он занемог, простыл, вон и кашляет, а простудную хворь выгоняют самогоном, испытанное средство, народная медицина.
– Еще маленько, мамаша.
Конечно, мамаша и есть. Добрая, приветливая, угощает, как сына. Он в сыновья ей годится. Как пани Тышкевич, Ядвиге, и она добрая, как мать. И ни о чем хозяйка не расспрашивает, хотя догадывается, кто он. Она говорит:
– Намытарился по лесам?
– Есть маленько…
– Меня зовут Мария Николаевна, на русский манер если.
– А я – Поля Будыкин, Аполлинарий, значится, Будыкин. Некоторые вот, злые на язык, говорят: Аполлинарий – это духовное, поповское, вроде бы отец Аполлинарий, я таких говорунов не уважаю.
Он спохватился и примолк. Занесло. Не хватало, чтоб стал жаловаться Марии Николаевне на Лободу. Поддал, так надсматривай за собой. Будыкин Поля, ты поддатый, помалкивай, а то сморозишь что-нибудь. Слушай лучше. Мария Николаевна говорит, и какое славное у ней лицо! Глаза прямо-таки лучистые, материнские, волосы густые, вьющиеся и седые, поседеешь, ежель потеряла сына и мужа. В украинскую речь она вставляет русские слова, как он вставлял в русскую речь украинские, и ее понимаешь безо всякого там переводчика. А говорила Мария Николаевна о муже и сыновьях, как они дружно жили, хотя и бедновато, сыновья выучились, в люди вышли. Стась плотником стал, был у них дом в местечке при железнодорожной станции, а когда Ивась и муж погибли от бомбы, она продала дом, переехала сюда, на отшиб, отсюда и Стася в армию забрали… Будыкин слушал, подперев подбородок кулаками. Было сытно, сухо, но тепло было только до живота, а ниже, до ступней, все холодное, как окоченелое, не согревалось, словно первак не доходил сюда, натыкаясь на невидимую преграду. И болела голова, болело горло, кололо под лопаткой, слипались веки. Растянуться бы на лавке, на земляном полу пускай, укрыться армейским бушлатом, кулак под щеку – и блаженствуй.
– Да ты, сынок, клюешь носом, – сказала хозяйка. – Постелю-ка я тебе…
– Мне надо идти, – сказал Будыкин. – Разве на пару часиков… Не больше!
– Я разбужу, когда скажешь.
– Будить не надо. Сам встану ровно через пару часов. Разве я не кадровый сержант?
Будыкин упал в сон, как камень в воду, и камнем же пошел ко дну, в самые глубины, где нет сновидений, одна чернота. Потом обрел легкость, плавучесть и немного всплыл из глубин, и начались довоенные расчудесные сны. Других они расстраивали: проснешься, а наяву все то же – кровь, страдания, смерть. Будыкина же такие сны радовали, успокаивая: вот как жили до войны, значит, так же будем жить и после войны, еще будет по-старому, по-довоенному, законно. Ему приснилось, будто он за слесарным станочком, в своих мастерских метеэсовских, что-то вытачивает, деталь – какую, непонятно, но ответственную, потому как директор метеэс дышит за спиной, упрашивает: «Товарищ Будыкин, на тебя надёжа, трактора простаивают». Или будто он на возу с сеном, наверху, в одной руке вожжи, в другой былинка, он грызет ее, ощущая сладкий вкус молодого сенца, а пахнет сенцо это… но тут и слова не подберешь, – это еще когда он был в колхозе. Привиделось также: вечерний закат, перистые облака, он с Катькой Абросовой на бережку озера, в вербняке, слова говорят всякие и целуются, – Катька его первая любовь, еще со школы, когда он попередь всех входил в медкабинет на прививки. Но это уже седьмой класс, и они целуются, как взрослые. После Катька выскочила взамуж за Проньку Криворотова, при встречах с Будыкиным вздыхала, чего ж теперь, спрашивается, вздыхать? Будто и сейчас она вздохнула, на закате: «Ты меня любишь?» – он ответил: «Любил». Он проснулся от собственного кашля – бухтел, разрывая грудь, и сразу же подумал, не предала ли хозяйка, не схвачен ли он, не в гестапо ли, не в полевой ли жандармерии. Откашлялся, отхаркался, и второй мыслью было: «За то время, что рассиживал здесь и дрых, допер бы до отряда». Неслышно ступая, подошла хозяйка, сказала почти шепотом: