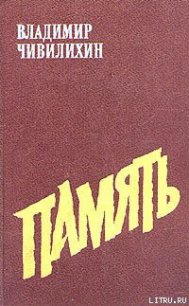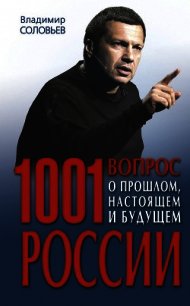Память (Книга первая) - Чивилихин Владимир Алексеевич (список книг TXT) 📗
И вот молодость давно прошла, но желанного успокоенья и душевного равновесия не наступило, она по-прежнему ищет общения с людьми, способными понять ее состояние. «Мне скучно и грустно, — вспомнив, очевидно, строки Лермонтова, пишет Александра Смирнова в декабре 1844 года Гоголю, — скучно оттого, что нет ни одной души, с которой я бы могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича… Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Мне нужны ваши письма».
И он писал, постепенно становясь своего рода духовником, поощряемый ответными письмами, в которых лишь иногда проскальзывали строки, не связанные с ее желанием видеть в нем утешителя и наставника. Так, осенью 1844 года она сообщила ему о встрече у .Евдокии Ростопчиной с Вяземским, Толстым-«Американцем», Федором Тютчевым… Последний, как она выразилась, «весьма умный человек», которого еще немногие знали как великого русского поэта, поддержал Толстого, когда тот заметил, что в «Мертвых душах» Гоголь не пощадил-де русских, а обо всех малороссиянах написал с участием. Гоголь ответил: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что я сам.не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину пред русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком одарены богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».
Переписка Гоголя со Смирновой, их отношения в своем роде неповторимы, оригинальны, как неповторимы и оригинальны были их личности и биографии, как неповторимо время, в какое они жили. Психологическая исключительность, некоторая даже странность этих отношений забылась во всех своих подробностях, ушла в прошлое, и когда-нибудь какой-нибудь мастер прозы, драматургии или кино оживит все это в назидание своим современникам, то вполне возможно, что он, приблизившись к теме, сразу же отступит или удовлетворится ее торопливой упростительной интерпретацией. И может, лучше, будет, если эта редкая тема «Гоголь — Смирнова» навсегда останется в том виде, какой ее создала жизнь, потому что достоверные подробности бывают куда ценнее и красноречивее любого художественного домысла-промысла.
Да, Гоголь сам называл их отношения любовью, однако вкладывал в это вечно юное и давно затрепанное небрежным употреблением слово недосягаемо высокий смысл — идеальное родство душ, «бесконечно небесное блаженство» духовных взаимовлияний. Писал ей: «Любовь, связавшая нас с вами, высока и свята. Она основана на взаимной душевной помощи, которая в несколько раз существеннее всяких внешних помощей».
Впрочем, такая ли уж редкость в жизни — сложные, на первый взгляд иррациональные, не укладывающиеся в обычные рамки, полузагадочные для постороннего взгляда отношения между людьми?
29
Гоголю страстно хотелось высказать в образах небывалое о жизни и России, нечто одухотворенно-огненное, а на бумаге получалось слабое тление. Новые главы второго тома «Мертвых душ» не удовлетворяли автора и безжалостно сжигались.
Зато все легче писались дружеские послания в непременном назидательно-проповедническом тоне, который прорывался даже в письмах к матери. Среди множества советов, высказанных в многословной обобщенной форме, было немало внешне мудрого, а по сути наивного практицизма, туманных блужданий искренне ищущего ума и оригинальных, свежих, как у каждого гения, мыслей, с исключительной психологической точностью приспособленных к душевному строю того или иного адресата. Постепенно в среде его приятельниц и приятелей, которым, безусловно, льстило повышенное внимание великого художника, образовалось мнение, будто письма Гоголя интереснее и значительнее того, что они читали в его сочинениях, а сам автор не только незаметно пришел к той же странной, противоречащей всем прежним оценкам идее, но и решил опубликовать письма к Александре Смирновой и другим, оставив на сотнях страниц частной переписки немало спорного, вплоть до безжалостного по отношению хотя бы к родным «Завещания». В письмах — размышляющий и проповедующий Гоголь, с душевной болью ищущий праведный нравственный путь для себя и других, для России и мира. Он выступает против лжи, гордости ума, незнания России, рассуждает о литературе, боге, христианстве, просвещении, помещиках, исповедуется, будто бы нащупывает пути к следующей своей книге, проповедует и советует, советует, советует…
Знаменитое письмо Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» все мы при нашем всеобщем обязательном образовании помним чуть ли не с детства, однако в основном лишь узкие специалисты ныне читают ответное письмо Гоголя, его «Авторскую исповедь», сами эти «Выбранные места», знают мнения о них современников Гоголя и Белинского.
Политическое завещание Белинского, несомненно, самая зрелая, смелая и серьезная отповедь ложному творческому шагу Гоголя, но выглядит через полтора века как-то слишком одиноко. Между тем мудрый и добрый, обладавший здравым смыслом Сергей Аксаков, отнюдь не принадлежавший к революционерам-демократам, еще до появления книги считал, что «все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость и, если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России», письменно протестовал против ее издания, а когда она все же вышла, он за полгода до Белинского откровенно написал Гоголю: «Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено. Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений… Но увы! Нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге. Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и бога, и человека». А сыну своему Ивану Аксаков писал еще резче: «…Все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнью своей возгласами о христианском смирении утопают в слезах и восхищении… Книга его может быть вредна многим. Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас…»
О какой, однако, женщине идет речь? О ней, конечно, написавшей Гоголю сразу после выхода той несчастно-трагической книги.
Александра Смирнова — Николаю Гоголю, 11 января 1847 года из Калуги: «Книга ваша вышла под новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! (разрядка моя. — В. Ч.). Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши „Мертвые души“ даже, — все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня посветлело на душе за вас».