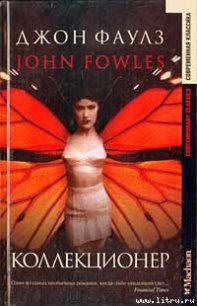Дэниел Мартин - Фаулз Джон Роберт (читаем книги txt) 📗
На следующий день после дознания прибыл «первый вклад» Дженни. Это был шок: не столько из-за критической стороны этого «вклада», сколько из-за его отстраненности, его резкой – слишком резкой – объективности, превращением их «ты-и-я» в «они». То, что Дженни могла писать так откровенно, потрясло его не так сильно, потому что он как-то успел прочесть (она об этом не знала) ее письмо в Англию до того, как оно было отправлено. Дженни писала приятельнице-актрисе о Лос-Анджелесе, о фильме, в котором снималась, – писала, чтобы позабавить; но даже и в этом письме Дэн разглядел некоторую отчужденность, открыл для себя существование личности, ему не знакомой.
Любовь – странная штука: от начала времен существует иллюзия, что любовь сближает влюбленных; несомненно, так оно и есть, физически и психологически влюбленные во многом становятся ближе друг другу. Но, кроме того, она основывается на некоторых вслепую принятых предположениях и прежде всего – на фантастическом убеждении, что характер любимого (или любимой) в первой фазе страстного увлечения есть его (ее) всегдашний истинный характер. Однако эта первая фаза представляет собой неизмеримо тонкое равновесие обоюдных иллюзий, живое соединение колесиков и шестеренок, столь тонко выточенных, что мельчайшая пылинка – вторжение не замеченных до того желаний, вкусов, черточек характера, любая неожиданная информация – может нарушить их ход. Я прекрасно знал это; я научился наблюдать и ждать, когда это произойдет, как учишься наблюдать и ждать появления симптомов знакомой болезни у некоторых растений; я даже замечал, как это происходило из-за каких-то мелочей в самом начале наших с Дженни отношений. Когда она узнала, что мой отец был священником, время замерло на целых десять минут; но это открытие выставило меня в слегка комическом свете, и я был прощен. Когда же эти пылинки ассимилируются, они слипаются в грозное препятствие. Проще говоря, ее письмо заставило утро остановиться: время замерло – такое же ощущение возникает из-за некоторых рецензий. Когда мы с Дженни снова поговорили, а это случилось в тот же вечер (она позвонила мне в калифорнийский обеденный перерыв), я уже успел прийти в себя, хоть и не готов еще был в этом признаться.
– Письмо пришло?
– Да.
– Мы в ссоре?
– Почти.
– Дэн!
– Да, Дженни?
– Ну скажи же что-нибудь!
– Вряд ли я могу сказать, что не подозревал в тебе этого.
– Ты обиделся.
– Нет. Просто слегка потрясен твоей объективностью.
– Это же не про тебя. Это – характеристика персонажа.
– Врушка.
– Я сегодня плакала дважды. Из-за тебя. Жалела, что отправила письмо.
– Ты прекрасно пишешь.
– Хоть бы ты его сжег. Сделал вид, что ничего этого не было.
– И не надейся.
Воцарилось молчание.
– Это просто потому, что я так о тебе скучаю. Говорю с листом бумаги вместо тебя. Вот и все.
– Зато говоришь более откровенно.
– Ты даже не спрашиваешь, почему я так о тебе скучаю.
– Ну скажи мне.
– Я решила взяться за ту роль. Сказала «да».
– Прекрасно. Я же говорил, что тебе следует согласиться.
– А теперь мне кажется, что я сожгла свои корабли. Сделала за тебя всю черную работу.
– Что за глупости!
С минуту она молчала.
– Ты же знаешь, от кого я научилась откровенности.
– А теперь учитель чувствует, что его учат. Профессиональная зависть. – Она не ответила, я прямо-таки слышал, как она в отчаянии задерживает дыхание. – И до смерти боится, что, если он вдруг не покажется обиженным, ему больше ничего не пришлют. – Дженни по-прежнему молчала. – Ты же не можешь вот так взять и все бросить.
– Я пыталась дать тебе понять, как это воспринималось. В самом начале.
– А мне интересно, как это воспринимается.
– Это воспринимается так, что ты, возможно, станешь первым человеком на земле, которого придушили через спутник.
Разговор продолжался в том же тоне еще минут пять, хотя под конец мне удалось убедить Дженни, что моя обида – в значительной степени просто розыгрыш; впрочем, и ее заявление, что, если она и напишет что-нибудь новое, мне никогда этого не увидеть, было выдержано в том же духе. В результате получилось так, что прощать… или не прощать следует меня. Мне напомнили, что, пока я тут буду наслаждаться вечерней тишиной «в своем заставленном книгами кабинете», ей – голенькой – придется провести день в постели с Хмырем. Она не такая ханжа, как некоторые актрисы, и не против постельных сцен, тем более что в моем сценарии (эпизод был написан, разумеется, задолго до того, как Дженни получила роль) дело происходит уже после самого акта и сцена носит скорее комический, чем сексуальный характер. Я знал, что Дженни без большого удовольствия ждет этой сцены, но она повесила трубку прежде, чем до меня дошло, что звонила-то она еще и поэтому – чтобы я мог ее приободрить, а не только из-за письма. На следующее утро я проснулся пораньше, чтобы позвонить ей в «Хижину», как только она вернется домой. Сцена прошла не так уж плохо, дублей было не много, и мы помирились: я только делал вид, не был по-настоящему обижен и очень хотел увидеть продолжение.
Я терпеть не мог похороны, возможно, потому, что отец мой всегда настаивал, чтобы мы с тетушкой Милли присутствовали на отпеваниях всех сколько-нибудь значительных его прихожан, и мне из-за этой отцовской странности пришлось отсидеть в церкви бесчисленные часы, слушая осточертевшие заупокойные молитвы. Похороны Энтони не изменили моего отношения к этой церемонии. Католический ее вариант допускал лишь одно небольшое, хоть и приятное отличие: в ритуал была включена весьма ученая, но краткая, хвалебная речь о покойном одного из его университетских коллег. Событие это привлекло гораздо меньшую аудиторию, чем я ожидал. Правда, потом Джейн призналась мне, что она многих уговорила не приходить на похороны. Зато дома, в гостиной, толпилась уйма народу: в соответствии с правилами буржуазного хорошего тона после погребения были устроены поминки.
В тот день я едва мог перекинуться с Джейн словом, но наблюдал за ней очень внимательно. Нервы ее были явно напряжены гораздо больше, чем во время дознания, может быть, потому, что ей приходилось играть роль, которая, как она утверждала, была теперь не по ней: надо было отвечать на множество вежливых вопросов, улыбаться в ответ на выражение сочувствия, участвовать в интеллектуальной болтовне. На отпевании и потом, на кладбище, Джейн была в черном пальто, однако сумела выразить свой протест хотя бы тем, что под пальто на ней было коричневое с белым, в «крестьянском» стиле, платье и ожерелье из яшмы; из-за элегантного наряда и неестественно оживленной манеры вести себя с не самыми близкими из гостей она казалась резкой и отчужденной. Наряд ее лишь в самой малой степени символизировал презрение к условностям, но это было заметно. На кладбище, когда – прах к праху, пепел к пеплу 241 – гроб опускали в могилу, я взглянул на Джейн. Она стояла, держа Пола за руку, глаза ее были совершенно сухи. Две ее дочери и Каро, стоявшая между мной и Нэлл, да и Нэлл тоже, едва сдерживали слезы; но лицо Джейн до последнего момента, когда она склонила голову, оставалось почти безразличным, хранило следы той неприязни, которую я заметил в нашу первую встречу в Оксфорде. Думается, всякий в подобных ситуациях инстинктивно бросает взгляд на вдову, так что я, несомненно, был не одинок. И здесь она провозглашала что-то. Я подумал о том, кто сейчас был в Гарварде: интересно, знает ли он, как вести себя с этой женщиной, ставшей теперь такой неподатливой? Я успел перекинуться парой слов с Роз до того, как мы все собрались у могилы, и знал, что он не приехал. На поминках я попытался заставить Джейн приподнять маску, когда она подошла к нам наполнить бокалы. Я стоял с Каро и какой-то престарелой тетушкой Энтони.
– С тобой все в порядке, Джейн?
– Все прекрасно. Это я еще могу вытерпеть. – Она оглянулась: среди гостей там и сям видны были католические священники – друзья Энтони, некоторые в облачении. Джейн состроила гримаску: – Ты, конечно, не знаешь, как бы потом получше десанктифицировать помещение?
241
…Прах к праху, пепел к пеплу… – см. Библию (Быт.3, 19: «…ибо прах ты, и в прах возвратишься»; Быт. 18; 27: «…я – прах и пепел»).