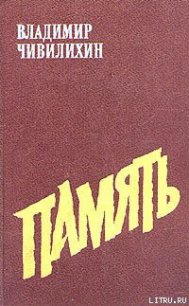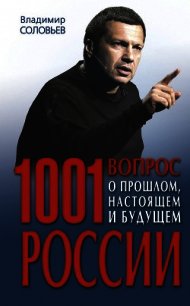Память (Книга первая) - Чивилихин Владимир Алексеевич (список книг TXT) 📗
В Риме эта шутка вспомнилась однажды, когда Гоголь в гостях у Смирновой вдруг снова начал рассказывать об Испании, которая в его глазах проигрывала перед Италией, — не тот-де климат, природа, народ и художества: испанская школа живописи напоминала в рисунке и красках болонскую, которую он не признавал, и, раз взглянувши на Микеланджело и Рафаэля, нельзя увлечься другими живописцами…
— Стройность во всем, вот что прекрасно, — заключил он.
— Может быть, это и так, — заметила она и со своей обычной прямотой, которую отмечал еще Пушкин, воскликнула: — Но вы ведь никогда не были в Испании! Вы, Николай Васильевич, как я положительно убедилась, большой мастер солгать.
— Как всегда, вы правы, — смиренно сказал он. — Да. Если уж вы хотите знать чистую правду, то я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете…
И он начал рассказывать о том, что город издали очень живописен, а вблизи совсем наоборот — бестолковость в застройке, грязь, и есть узкие улицы, в какие не пройдет иная наша купчиха или попадья по причине бедер. И не поймешь, кого более — нищих или же собак. А собаки-то — и муругие, и пегие, и белые — все из-за грязи да пыли какого-то мышиного цвета и с проплешинами, оттого, что их не то кипятком шпарят, не то они сами шерсть с себя сдирают вместе с блохами. А на базаре оборванец какой-то золотом торгует! Кофе на каждом углу варят, что за кофе! В Риме подают турецкий кофе и в Париже, но все это жидкие итальянские и французские приготовленья. В Константинополе кофе — осадка полчашки, а жижа черная, как сажа, густая, как сироп, и с двух маленьких чашечек ночь не уснешь. А вокруг бывшей христианской Софии в отличие от римского Петра вот этакая не похожая ни на что планировка…
Взяв карандаш и листок бумаги, он начал чертить план кварталов, примыкающих к главному мусульманскому храму Константинополя, рассказом о коем Гоголь на целых полчаса занял гостей Александры Смирновой.
— Вот сейчас и видно, — сказала в заключение хозяйка, — что вы были в Константинополе.
— Видно, как легко вас обмануть, — невозмутимо возразил Гоголь. — Вот же я никогда не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был.
Константинополь Гоголь впервые увидит лишь через пять лет, возвращаясь морем из Палестины, а вот был ли он в Испании и Португалии, чему все же поверила Смирнова, никому до сих пор неизвестно ничего достоверного. В первую свою недолговременную, нежданную, безрассудную и странную заграничную поездку летом 1829 года он никак не успевал побывать далее Гамбурга. И нет пока решительно никаких данных, кроме слов самого Гоголя, великого мастера шутливых мистификаций, что он заглянул за Пиренеи летом 1837 года…
Как-то Гоголь повез Александру Осиповну и Аркадия Осиповича Россет на очередную экскурсию по Риму, не предупредив, что они будут осматривать. Когда пошли пешком, он попросил смотреть направо, хотя там не было ничего примечательного, а потом вдруг попросил обернуться. Брат с сестрой ахнули от восторга — перед ними в самом выгодном ракурсе высилась знаменитая статуя Моисея.
— Вот вам и Микеланджело! — воскликнул Гоголь с таким видом, будто он сам, был создателем столь великого. — Каков?
А впереди было знакомство с Рафаэлем, выше творений которого для Гоголя ничего не существовало ни в живописи, ни в архитектуре. Он возил Александру Осиповну и на виллу Мадама, построенную по эскизам Рафаэля, и в Сан-Аугустино, где под сводами храма парили ангелы гениального итальянца, смотрели его Психею в Фарнезине, причем Гоголь там не на шутку рассердился на спутницу, проявившую, на его взгляд, недостаточно восхищения. Да, спутница, очевидно, была довольно поверхностна в восприятии бессмертного. Собором святого Петра она, по словам Гоголя, осталась довольна, не более, а сама Александра Осиповна пишет, например, как они увидели «сидящего Моисея с длинной бородой» и «любовались картиной страшного суда» в Сикстинской капелле… Быть может, она действительно любовалась, Гоголь же обратил ее внимание на изображение мук грешника между адом с его чертями и раем с его ангелами.
— Тут история тайн души, — сказал Гоголь. — Всякий из нас сто раз на день то подлец, то ангел.
Постепенно, однако, она под влиянием спутника начала, кажется, испытывать искреннюю тягу к старине и даже «его мучила, чтоб узнать поболе». Один раз, гуляя в Колизее, спросила:
— А как вы думаете, где Нерон сидел? Вы это должны знать. И как он сюда явился — пеший, в колеснице или на носилках?
— Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! — рассердился Гоголь и горячо заговорил. — Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них. не сыщется никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в этой географии можно было бы увидеть, как писать историю…
Он прервал речь, вдруг заметив, что спутница преувеличенно внимательно слушает его.
— Друг мой, я заврался.
— Напротив, — возразила она. — Вы говорите очень интересные и серьезные вещи. Продолжайте, пожалуйста.
— Нет, об этом после… А скажу вам, между прочим, что подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венце, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел, и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане? Она изваяна с натуры…
Не раз совершались и дальние, с остановками в гостиницах, загородные прогулки. Однажды в Альбано, осмотрев достопримечательности, они встретились вечером всей компанией и кто-то из их спутников начал читать из Жорж Санд. Гоголь хмуро слушал, молча ломал руки, когда другие, в том числе и Смирнова, восхищались отдельными местами, потом совсем помрачнел и ушел к себе. Александра Осиповна не поняла его состояния и после поинтересовалась:
— Отчего же вы давеча ушли, не дослушав чтения?
— Любите ли вы скрипку? — в свою очередь спросил он ее.
— Да.
— А любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?
— Да что же это значит? — в недоумении спросила она.
— Так ваш Жорж-Занд видит и изображает природу. Я не мог равнодушно видеть, как вы это можете выносить. Удивляюсь, как вам вообще нравится все это растрепанное…
В тот день он был. задумчив и грустен, а вечером нежданно уехал в Рим, хотя заранее было условлено, что в Альбано все пробудут три дня. Поступок этот Александра Осиповна сочла очень странным и не могла позже добиться от Гоголя удовлетворительных объяснений.
А в Кампанье он вообще повел себя необычно. Молчал, во время прогулок шел один и поодаль от остальных, подымал и рассматривал какие-то камушки, срывал травинки, а то, размахивая руками, шел прямо на кустики и деревца. Однажды oна подошла к нему, лежащему на траве. Он задумчиво и углубленно смотрел в небо.
— Что с вами? — весело спросила она, заметив и в его глазах веселинку.
— Забудем все, посмотрите на это небо, — произнес он.
Не кажется ли вам, дорогой читатель, что Гоголь вел себя, как влюбленный юноша? Пытался ли он разобраться в своих чувствах к ней, тщательно скрывая это от нее, себя и других? Спустя полтора века мы можем говорить об этом лишь предположительно, если даже бесспорные факты рассматривать в их совокупности и связи.
Прощаясь с Гоголем в мае 1843 года, Александра Осиповна знала, что он выезжает следом, буквально через несколько дней, и уже 17 мая Гоголь пишет Шевыреву.из Гастейна, что собрался в Дюссельдорф, но вскоре почему-то оказался в Эмсе, неподалеку от Бадена, где лечилась она. В Эмсе той порой жил Жуковский, и вот Гоголь сообщает Александре Осиповне через брата, что он «в Эмсе для компании Жуковскому», которого она как раз собиралась навестить.