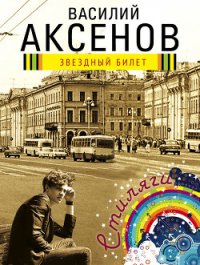Вольтерьянцы и вольтерьянки - Аксенов Василий Павлович (книги онлайн полные TXT) 📗
С тою же не вполне отчетливой, но понятной гордостью он относился к своим собственным детям, родившимся у них во время долгого сиамского путешествия. Холостяк Георгий и волоокая красавица Наталья, ныне княгиня Пензовалдайская, несмотря на довольно иноземную внешность, выросли настоящими российскими либералами. В Петербурге, где они проводили большую часть времени, они посещали вольнодумские салоны, где говорили более о масонах Радищеве и Новикове, чем о наследии масоноборческой императрицы.
***
Княгиня Пензовалдайская, антр ну, была весьма близкой, чтобы не сказать, интимной, подругой мореплавателя Аруэта Лескова. Настолько близкой, что у родителей по обе стороны реки Мастерицы возникали опасения по поводу слишком уж родственного слияния кровей. Впрочем, сиамские влияния затемняли славянские, черты двух ее деток, так что трудно было сказать, кто на кого похож. Самому князю, человеку намного старше Натальи, сии тонкости были, как тогда говорили, «до свечи». Выйдя в отставку из преторианской гвардии императора Павла, он теперь сиднем сидел в своем огромном тамбовском поместье, злобствовал по адресу новых российских поколений и воспарял душою только в сезон псовой охоты, когда гонял по покатым холмам свои отменные английскую и русскую своры.
Что касается красавицы Натальи, то она предпочитала их богатый петербургский дом, а если уж отправлялась на Тамбовщину, то по дороге надолго задерживалась у маменьки с папенькой и с соседствующей тетушкой Феклой, то есть ликовала в атмосфере фортепианных концертов и регулярных книжных присылок из Европы. Словом, она со своими детьми тоже присутствовала на семейном ужине у Лесковых.
***
Уселись все вокруг большущего овального стола. Во главе его, разумеется, фигурировал сам маркграф, генерал Лесков, вовсю играющий роль патриарха большого дворянского сельского клана, как будто это и не он хитроумным «русским Калиостро» вот уж пятнадцать лет рыщет по городам и весям России и близлежащей Европы.
Визави от него восседала герцогиня Амалия, то есть можно было и про нее сказать, что это она возглавляет стол. Так или иначе, но по традиции Лесковых-Земсковых предполагалось, что вокруг герцогини собирается многочисленное детство клана, коему она преподносит весь отменнейший «финесс» оверсаленной Европы. Нынче уже не так многого можно было ожидать от полуслепой и на три четверти глухой дамы, однако даже и сейчас она иной раз выкаркивала: «Не путать куверты!», или: «Салфетку!», а то и целое изречение вроде: «Улыбку — извольте, хохот — на десерт!» В эти редкие осмысленные моменты с основательно усохшей ея головкой происходили необычные явления: ну, скажем, из уха у нее всходил колосок яровой пшеницы, на нижнем веке по соседству с глазом появлялась незабудка, на подбородке вырастал крепенький грибок, или вдруг по неровностям щеки неспешно проползала пушистая гусеница, поглядывающая на собравшихся вокруг довольно вдумчивым взглядом. Дети так привыкли к этим странностям, что не обращали на них внимания.
Вскоре за столом определился и истинный глава пира. Оным естественно оказался не кто иной, как старший сын Лесковых, Магнус Николаевич. Набравшийся грузинских привычек от своей супруги и от генерала Багратиона, он объявил себя «тамадою», постоянно провозглашал тосты и выкрикивал столь благозвучное «алаверды!», а также показывал в лицах всем знакомых помещиков, что «профершпилились» за картами на губернской ярмарке.
В промежутках между блюдами общество непринужденно пускалось в танцы, и тут уж к вящему удовольствию всего детства истовым церемониймейстером становился богатырственный тяжеловес, Гран-Пер Мишель. Именно он однажды между кофием и бланманже начал бухать всеми пальцами, а то и локтями по клавиатуре и в память о юношественных авантюрах объявил матлот-матроску. То-то было визгу среди детства, когда обе бабушки, Клавдия и Фекла, подбрасывая юбки, пустились в пляс. Среди сего всеобщего танцевального варварства никто из детей и не заметил, как бабушки в углу залы уткнулись друг дружке носиками в кружева и содрогнулись в ошеломляющих воспоминаниях. Словом, пир удался.
***
Дом затихает. Детей развели по спальням. Родители вышли к прудам, на коих, словно отблески празднества, покачивались отражения луны. С колпачками на длинных шестах по комнатам прошли слуги и загасили высокие люстры. Два старых друга, Николя и Мишель, по старой привычке остались вдвоем у большого полукруглого окна с видом на залитую луной обширную и немного слезливую рязанскую равнину. О де ви, похожий на расплавленный янтарь, из тяжелого хрусталя перетекает в два легких и далее через видавшие виды глотки отправляется на соединение с не менее умудренными жидкостями и слизями их организмов.
«Эта твоя сегодняшняя эскапада на фортепьянах, Мишка, напомнила мне знаешь кого? Унтеров Упрямцева и Марфушина, помнишь? — не без мечтательности вопросил Николай Галактионович и, увидев улыбку на морщинистых губах друга, продолжил вопрос: — Ты их встречал потом в Петербурге?»
«Как же, встречались, — ответствовал Михаил Теофилович. — Только без усов и в других чинах. Да и имена были другие. Как ты думаешь, Колька, записана ли сия облискурация в книгу наших грехов?»
Лесков рассмеялся и подкрутил свои новомодные усики: «Можешь не сомневаться, ваше превосходительство, и не надейся на вольтеровские индульгенции! Лучше давай, пока живы, вместе покаемся, только не православному батюшке, а ксендзу в Данциге».
Почти никогда они не говорили о своей второй религии, католичестве, которое тайно приняли по настоянию невест-католичек. В духе цветущего своего вольтерьянства шевалье Террано и Буало мало заботились в те дни о разделении церкви и нерушимости ритуалов. С такой же легкой душою вторично пошли под венец и в рязанских православных краях. С той же степенью легкости, впрочем, они относились и к атеистической догме энциклопедистов, а усмешливую фигуру Бога, известного в предреволюционной Франции под кличкой «Господин Быть», полагали проявлением бойкости языка и слабости духа. Непостижимый Део, вот перед кем они благоговели. Он посылает к людям своих аватаров, Будду, Моисея, Христа, Магомета, дабы очистить их сути от «холиостратиков» догм, но люди из сих посланников творят новые догмы. Таким образом, отрешившись от множественных сомнений, можно легко вскочить в седла и понестись в непостижимом, как сам Део, пространстве, порой проскакивая границы между прошлым, настоящим и будущим.
Между тем тяжелый хрустальный сосуд становился все легче. Почтенные генералы с каждым глотком О де ви становились моложе, и в темных стеклах виделись им отражения их прежних юных лиц. Беседа стала перепрыгивать с темы на тему, подобно тому, как Пуркуа-Па и Антр-Ну перепрыгивали с камня на камень при переходах через швейцарские горные ручьи.
«Мы редко видимся, Мишаня, а я давно тебя хотел спросить: случаются ли с тобой в преклонном возрасте прежние визионы? Шалит ли по-прежнему твоя голова?» — спросил Николай.
Михаил усмехнулся: «Ах, Николашамой Калиострович, башка моя нынче затвердела в научной работе, в рутине медлительной жизни. Часто мне вспоминаются прежние ослепительности. Помнишь, я тебе говорил про летающие домы, про визги Орды, про лунное пребывание?…»
Николай мечтательно улыбнулся: «Я помню, как ты в Париже на Масленицу нежданно заголосил чудную песню под гваделупский тамтам, помню еще твоего бреющего „жужжала“…»
«Не жужжала, а жужжалу», — поправил его Михаил.
«Да— да, женского рода, как бритва… -проговорил Николай. — Ах, какие были восхитительные облискурации! До сих пор не понимаю, сколько мы сидели в Шюрстине, год или день, действительно ли вели нас тогда на казнь…»