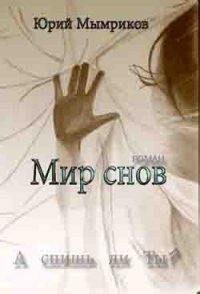Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
– Профсоюзы сперва подняли хай: как это можно, мол! Но работяги сами восстали: не одних денег ради мы здесь живем, мы – атакёры! – Токарев рассмеялся, пояснил: – Это у шахматистов такое словечко есть, нравится оно мне, а за мной и все его повторять стали: «атакёры»!.. И вот, каждое утро я приезжаю сюда: для души зарядка на весь день. А что? – честно скажу: был бы, к примеру, испанцем я, так для меня такие секунды – вроде фиесты. Штурмовщина, аврал, опасность?
Может быть. Но сверх всего – праздник. Как в настоящем бою – атака: забываешь себя, бежишь на смерть вроде, но не помнишь о ней, и оттого, что не помнишь, тебя радость и сила изнутри распирают. Я ж до концлагеря на фронте и в атаки ходил, не только отступать довелось… Почему, думаете, люди в такие минуты «ура» кричат, матерятся? От злости? Чтобы страх в себе задавить? Может, – некоторые. А у большинства – не то: победа над самим собой распирает, – а-а-а!.. Помните стихи? «Есть упоение в бою…» Есть!
Он отбросил двумя ладонями редеющие уже волосы назад, и лоб стал выше будто бы – в который уж раз я залюбовался на него: лоб – гора! – лицо молодо просветлело. Я невпопад, прежде чем подумал, спросил:
– Михаил Андреевич, кстати, о концлагере. Я с того самого дня – помните? – когда в прошлый приезд засиделся у вас и вы еще показали мне докладную майора Труммера, распутываю, не знаю зачем, всю эту эпопею с несостоявшимся восстанием в Зеебаде и маршем смерти. Ронкин и Панин многое рассказали, документы нашлись будто б даже забытые. Но вот неясная эта история с Корсаковым, художником, – почему вы с ним в карцер попали? Чуть не из-за него… И что там в карцере было? Этого, кроме вас, никто не расскажет.
У Токарева вмиг лицо, плечи порыхлели, оплыли вниз.
До той секунды мы стояли на краю дороги, над обрывом к реке, а тут он повернулся и залез в машину, откинулся устало на спинку, закрыл глаза. Словно бы вдруг все силы выжали из человека.
Я уж хотел извиняться, просить, чтоб не отвечал на вопрос, не к месту заданный. Но Токарев кулаком по колену пристукнул и проговорил сквозь зубы:
– А черта ли я вам расскажу про этого Корсакова!
Про этого!.. – Он выругался еще крепче и на меня тоже прикрикнул: – Да вы садитесь в машину, садитесь! – Приказал шоферу: – На плотину, Саша.
Я сел. Машина спускалась вниз, обгоняя рискованно самосвалы, чуть не подныривая под их высокие кузова.
Токарев говорил, не поворачиваясь ко мне, я видел только могучую, красную шею его, круглый затылок.
– Я тоже в этой истории не все понимаю. Знаю, что занимался Корсаковым после освобождения особый отдел, – я сам попросил, чтоб занялись им, сам! – словечко последнее он выкрикнул, будто уже и споря с кемто… С собой? И спор этот, видно, не сейчас начался…
– Непонятен он мне, Корсаков. До сих пор непонятен. Я его года полтора в глаза не видел – конспирация.
Он возглавлял подполье в филиале Зеебада, который обслуживал железнодорожную станцию, мастерские в депо и всякую там чепуху. Там…
– Это я знаю, Михаил Андреевич, – осторожно перебил я. – И про Циема, начальника станции, знаю, про его жену.
Повернувшись, он взглянул на меня изучающе, догадался:
– Панин рассказал?.. С помощью Циема они там добыли целый арсенал: пистолеты, три автомата, даже гранату, – этого Панин мог не знать. Панин был связан с Корсаковым, – он усмехнулся, – больше по вашей части: писал листовки, а Корсаков печатал… Ну, и со своим оружейным складом они в филиале думали, что и мы все вот так, – Токарев чиркнул рукой по горлу, – всем обеспечены, хоть на танки иди!.. Это я еще могу понять: когда тебя держат несколько месяцев на взводе, пружина сжата, первая пуля давно в стволе! – и вдруг – ставят на предохранитель, спускай пары! К тому же Циема уволокли в гестапо, – это вы знаете?
Я кивнул.
– Он был связан только с Корсаковым. Но тому-то от того не легче было. Вот и загуляли нервишки, – – и это я тоже могу понять.
– Что же он – из страха потребовал встречи с вами?
– Не знаю! – раздраженно ответил Токарев. – Может, из состраданья. Это уж – психология. А нам не до нее было. В комендатуре и без Циема чуяли: в лагере – подполье. Хотя ничего толком не знали. Психовали: чуть не каждый день – дезинсекции, беспричинные аресты – кто под руку попадется! Тасовали нас, как колоду замызганных карт, – всё перемешалось! А станцию, железную дорогу американцы бомбили. Перестали туда из Зеебада гонять рабочих – связь порвалась. Хефтлинги – там – ночевали в щелях, вырытых специально. Даже по баракам не разводили и мертвецов к нам, в крематорий, перестали возить… Как мне-то было к Корсакову выбраться?.. Одна только возможность мелькнула: начальник складов, пропойца Штимм как обычно запрягал в коляску десяток человек и рысью, с песней – к железнодорожной пивнухе! – он и в те дни не мог отказать себе в таком удовольствии. Вот и я вызвался… Потом мне же это в строку ставили.
Токарев рассказывал, больше уж не оборачиваясь ко мне – не мне будто, глядя вперед, на дорогу. Она шла над самым обрывом к реке, черная круча поросшего мхом песчаника. И вода в реке была темная. Лаково отсвечивала на солнце, совсем непрозрачная, тоскливая вода.
– Короче говоря, мы только добежали до пивнушки, Штимм хлестанул кнутом напоследок, только я вышагнул из упряжки, будто б ботинок зашнуровать, – к Корсакову, он уже шел ко мне из-за угла, ждал; мы не успели двух слов сказать, как из пивнушки вывалились пятеро эсэсовцев и сразу – к нам: «Руссише швайне! Ферботен!» Запрещено! – сбили с ног сапогами и поволокли, А с ними – сам Зоммер, начальник карцера, трезвый, ни в одном глазу, хотя колотил меня по голове пивной кружкой – с нею и выбежал. «Красное солнышко!» – «Зоммер» – солнце по-немецки, – пояснил он и спросил: – Случайность? – Отыскал в зеркальце над ветровым стеклом мое лицо и сам же хмуро ответил:
– Быть может. Но дальше-то начались случайности похитрей, в карцере… Били нас две недели. То есть – меня. Корсакова – не знаю, не видел. А знаю другое. Был там палач для торжественных случаев, Когда вешали хефтлингов на плацу, он руководил, так сказать, всей технической частью дела: веревки смазывал, скамейки из-под ног выбивал – эффектно! Одним ударом сапога. Жирная скотина, глаза-щелки, лоб неандертальца – Фриц Гронинг. А еще гримировал почетных покойничков, из немцев, которых надо было родственникам показать перед погребением. Тоже – художник в своем ремесле, – проговорил Токарев с издевкой, не к одному Гронингу относящейся.
Я вспомнил евангелического пастора Шнейдера. Все сходилось. Одно к одному.
Машина опять поднялась на сопку. Рядом с обочиной стояли освещенные солнцем лиственницы. Хвоя их была акварельно-зеленой, словно подкрашенной, как в театре.
– И вот этот-то Гронинг – мы все его ненавидели! – таскал Корсакову харчи и лекарства, даже два раза – шоколад. А от Корсакова кое-что и мне перепало. Только потому и выжил.
– Как перепало?
– Ну, это непростое дело: специальное приспособление соорудил Корсаков из проволоки, веревки – на блатном языке называется «конь». Чтоб из камеры в камеру через решетки перекидывать мне посылки. Что-то вроде удочки, Однажды и записку прислал: «Ешь. Это – подарки от моих клиентов».
– Каких клиентов?
– Он в лагере рисовал портреты: капо, блоковых старост, хефтлингов, из тех, что получали посылки Красного Креста: французов, шведов… Или перерисовывал с фотографий запроволочных родственников. Люди сентиментальные готовы были ради этого своим пожертвовать… Была действительно у него клиентура. Но вряд ли Гронинг за здорово живешь стал бы от них таскать посылки: не тот человек. Да и какой клиент ему доверился бы?..
Токарев замолчал, задумавшись.
– А почему Корсакова оставили в карцере, когда вас выгнали на «тотенвег»? Как это случилось?
– А черт его знает! Ночью меня вышвырнули на плац. А уж что, как с ним – не знаю. Не до него было.
– А Гронинг исчез?
– Лет через десять поймали в ГДР.
– В ГДР?