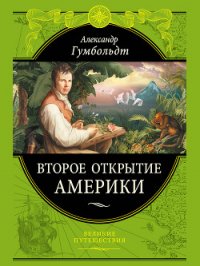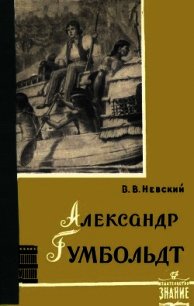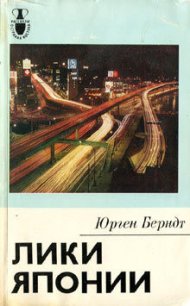Дар Гумбольдта - Беллоу Сол (бесплатные версии книг .TXT) 📗
— Ты, конечно, взял на заметку этих милашек, — высказалась Рената, снова приходя в хорошее расположение духа, — мы шли по бесконечному коридору, устланному золотистым ковром с бесконечно повторяющимся рисунком черных росчерков и завитков, завитков и росчерков. Моя привычка пристально разглядывать людей забавляла Ренату. — Ты такой жадный зритель, — добавила она.
Так и есть, хотя десятилетиями я пренебрегал этим своим врожденным свойством, своей особой манерой наблюдения. И сейчас не видел никаких причин, почему бы не возобновить ее. Кому это мешает?
— Что это? — воскликнула Рената, когда коридорный открыл дверь. — Что за номер нам дали?
— Это комнаты с мансардными окнами. На самом верху «Плазы». Отсюда открывается самый лучший в гостинице вид, — сказал я.
— В прошлый раз у нас был изумительный люкс. Какого черта мы забыли на чердаке? Где наш люкс?
— Ну-ну, дорогая. Какая разница? Ты совсем как мой брат Джулиус. Он тоже возмущается и надувается спесью, если в гостиницах ему не дают самого лучшего номера.
— Чарльз, у тебя что, очередной приступ скупости? Помнишь, что ты как-то сказал мне о специальном застекленном вагоне в хвосте поезда для туристов, которым нравится разглядывать пейзаж?
Я даже пожалел, что когда-то познакомил Ренату с высказыванием Джина Фаулера [325], который говорил, что деньги — это то, что можно разбрасывать с последней площадки мчащегося поезда. Но ведь то был журналистский стиль золотого века Голливуда, пьяной роскоши ночных клубов двадцатых годов, Синдрома Большого Транжиры.
— И все-таки, Рената, отсюда действительно открывается самый лучший во всей гостинице вид на Пятую авеню.
Вид, если вы к ним неравнодушны, и правда открывался замечательный. Обычно мне прекрасно удается заворажить других всякими красотами ради того, чтобы погрузиться в себя. Внизу Пятая авеню сверкала рождественским убранством, фарами попавших в пробку автомобилей — движение между Семидесятой и Тридцатой улицами было особенно плотным, — разноцветными и прозрачными вывесками, которые, подчиняясь пульсирующим вспышкам, легко меняли форму, как клетки капилляров под микроскопом. Все это я увидел в одно мгновение. Как расторопная девица-крупье, которая сгребает все фишки прежде, чем шарик установится на колесе рулетки. Как и прошлой весной, когда мы с Ренатой поездом отправились в Шартр. «Посмотри, какая красота!» — воскликнула она. Я взглянул, да, вид действительно был прекрасный. Но мне хватило одного только взгляда. Таким образом можно сэкономить массу времени. Весь вопрос в том, что делать с минутами, добытыми такой экономией. Все это, могу добавить, — результат действия того, что Штейнер называет Сознающей Душой.
Рената не знала, что Урбанович собирается заморозить мои деньги. Но по выражению ее глаз я понял, что думает она именно о деньгах. Она частенько воздевала брови с любовью, но то и дело ее взгляд становился сугубо практическим, хотя и это мне безумно нравилось. Через мгновение Рената решительно повернула голову ко мне и сказала:
— Раз уж ты в Нью-Йорке, что тебе мешает встретиться с несколькими редакторами и растыкать свои статьи. Такстер вернул их тебе?
— Неохотно. Он все еще надеется выпустить «Ковчег».
— А то как же. Он сам — все твари по паре вместе взятые.
— Он звонил вчера и приглашал нас на прощальную вечеринку на «Франс».
— Его престарелая мать устроила ему еще и вечеринку? Она, должно быть, уже совсем старая.
— Но понимает толк в роскоши. Она устраивала выход в свет для нескольких поколений дебютанток, и она знается с Настоящими Богачами. Она всегда знает, где ее мальчика ожидает какое-нибудь шале, или охотничий домик, или яхта. Стоит ему переутомиться, и она отправляет его на Багамы или к Эгейскому морю. Тебе стоило бы на нее взглянуть. Такая себе тощая, умная и предприимчивая особа, но сердито зыркает на меня — я недостойная компания для Пьера. Она стоит на страже богатых семейств, защищая их право убивать себя алкоголем и их вековую привилегию быть ничтожествами.
Рената засмеялась:
— Избавь меня от его вечеринки. Закончим твое дело с завещанием Гумбольдта и отправимся в Милан. Мне не терпится туда попасть.
— Ты думаешь, что Биферно действительно твой отец? Все лучше, чем гомик Анри.
— Честно говоря, на кой бы мне сдался отец, если б мы были женаты. Я ищу твердой опоры в своем шатком положении. Ты можешь сказать, что я уже была замужем, но брак с Кофрицем твердой опорой не назовешь. Да к тому же я отвечаю за Роджера. Кстати, мы просто обязаны послать всем детям подарки из «Шварца» [326], а у меня нет ни цента. Кофриц по полгода задерживает алименты. Говорит, что я завела богатого дружка. Но я не потащу его в суд и не засажу за решетку. А ты… У тебя и так слишком много нахлебников, а я не хочу попать в ту же категорию. Хотя я о тебе забочусь и, признай, от меня, по крайней мере, есть какая-то польза. А попадись ты в лапы этой антропософской дочке, этой маленькой блондинистой лисичке, ты бы скоро почувствовал разницу. Она та еще штучка.
— При чем тут Дорис Шельдт?
— При чем? А разве ты не написал ей записку перед отъездом из Чикаго? Я прочла оттиск, который остался в твоем блокноте. Разве это честно, Чарли? Ты самый отъявленный в мире лгун. Хотелось бы мне знать, сколько дам ты придерживаешь про запас.
Я не стал возмущаться тем, что Рената за мной шпионит. Я больше не устраивал сцен. Наши поездки в Европу, приятные сами по себе, кроме того, избавляли меня от посягательств мисс Шельдт. Рената считала ее опасной особой, и даже Сеньора пыталась бросить мне этот упрек.
— Но, Сеньора, — отвечал я, — мисс Шельдт появилась на горизонте только после случая с мистером Флонзалеем.
— Вот что, Чарльз, вопрос о мистере Флонзалее надо закрыть. Вы не просто провинциальный буржуа, вы — литератор, — сказала пожилая испанская дама. — Флонзалей в прошлом. Рената небезразлична к чужой боли, так неужели вы думаете, что она могла поступить иначе, когда тот человек переживал такие муки? Рената проплакала всю ночь, что он находился у нее. Он вульгарный бизнесмен и не идет с вами ни в какое сравнение. Просто Рената чувствовала себя обязанной уделить ему внимание. И поскольку вы homme de lettres, а он гробовщик, более достойный человек должен быть терпимее.
Я не мог спорить с Сеньорой. Однажды утром я увидел ее, когда она торопилась в ванную и еще не успела накраситься, совершенно бесцветная: дряблая желтая, как у банана, кожа, без бровей и ресниц и практически без губ. Жалость, возникшая во мне от этого зрелища, проняла меня до сердца, и я навсегда лишился всякого желания выигрывать у нее хотя бы одно очко. Когда я играл с ней в триктрак, то жульничал в ее пользу.
— В отношениях с мисс Шельдт, — сказал я Ренате в «Плазе», — самое важное — это ее отец. У меня не может быть романа с дочерью человека, ставшего моим учителем.
— Вдалбливает тебе в голову всяческую чушь, — вставила она.
— Рената, позволь мне процитировать: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Это Откровение Святого Иоанна, более-менее близко к тексту.
Снисходительно улыбаясь, Рената встала, одернула мини-юбку и сказала:
— Ты закончишь тем, что будешь шлепать босиком по Лупу с плакатом: «Задумайтесь, где вы проведете вечность!» наперевес. Ради бога, позвони, наконец, этому Хаггинсу, душеприказчику Гумбольдта. И не вздумай снова потащить меня на обед в «Румпельмайер».
Хаггинс собирался в галерею Кутца [327] на открытие выставки, и когда я изложил свое дело, он предложил там и встретиться.
— Что там за наследство такое? Неужели там что-то есть? — поинтересовался я.
— Кое-что есть, — ответил Хаггинс.
В конце сороковых, когда Хаггинс слыл в Гринвич-Виллидж знаменитостью, я был почти незаметным членом кружка, обсуждавшего политику, литературу и философию у него в доме. Там собирались такие гиганты, как Кьяромонте [328], Рав, Абель, Пол Гудмен и Фон Гумбольдт Флейшер. Объединяла нас с Хаггинсом привязанность к Гумбольдту. И все, пожалуй. В большинстве случаев мы раздражали друг друга. Несколько лет назад во время съезда демократической партии в Атлантик-Сити, в этой жалкой юдоли развлечений, мы наблюдали как Хьюберт Хэмфри [329] делает вид, что оттягивается со своей делегацией в тот самый момент, когда его распекал Джонсон, и что-то в нарядном запустении, в оборванных нитях праздничного веселья настроило Хаггинса против меня. Он обрушился на меня, когда мы вышли на дощатый променад и повернулись лицом к внушающей ужас Атлантике, низведенной здесь до обычной соленой водички обертками от ирисок и похожим на пену попкорном, ежедневно сметаемыми в океан дворницкими метлами. Без оглядки на авторитеты, подкрепляя свои аргументы подергиваниями седой козлиной бородки, Хаггинс резко отрицательно отозвался об опубликованной мною той весной книге о Гарри Гопкинсе. Хаггинс писал репортажи об этом съезде для газеты «Женская одежда». Он не только был гораздо лучшим журналистом, чем я, — мне таким никогда не стать, — но к тому же еще и известным богемным диссидентом и революционером. Он язвительно поинтересовался, с чего это я так благосклонен к «новому курсу» и как это мне удалось разглядеть столько достоинств в Гопкинсе? Заявил, что в своих книгах я постоянно подлизываюсь к американской системе правления. Обозвал меня апологетом, самозванцем и марионеткой, чуть ли не Андреем Вышинским [330]. В Атлантик-Сити, как и везде, этот высокий розовощекий козлобородый заика и спорщик одевался неформально: хлопчатобумажные брюки из прочной фильтровальной ткани и теннисные туфли.
325
Фаулер Джин (1890-1960) — журналист, писал биографические книги об актерах.
326
«Шварц» — знаменитый магазин игрушек в Нью-Йорке, основан в 1870 г.
327
Галерея Кутца — галерея современного искусства в Нью-Йорке, основана 1957 г.
328
Кьяромонте Никколо (р. 1905) — итальянский философ-антифашист.
329
Хэмфри Хьюберт Горацио (1911-1979) — сенатор-демократ, вице-президент в 1965-1969 гг., неудачный кандидат в президенты на выборах 1968 г.
330
Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954) — советский деятель. В 1917 г. был меньшевиком и выдал санкцию на арест Ленина. В 30-е годы прокурор СССР, выступал обвинителем на фальсифицированных процессах против оппозиции Сталину. Затем был дипломатом, умер в Нью-Йорке на посту представителя СССР в ООН. Известный на Западе, служил для американских интеллектуалов олицетворением сталинского режима.