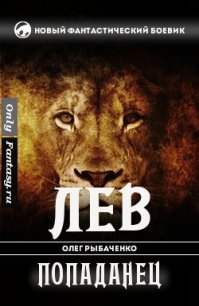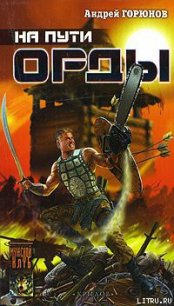Остров - Голованов Василий (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Полагаю, что политические события того времени каким-то образом проецировались на эти сны, но главная причина кошмаров коренилась все же во мне: мир казался мне бессмысленным. Развод и в особенности все, что ему предшествовало, подействовал на меня разрушительно: я знал, что потерпел серьезнейшее человеческое поражение, не сделал чего-то, во всяком случае, ни в чем не убедил женщину, которую любил и с которой прожил почти семь лет. Моя жизнь была неубедительна. За полтора года одиночества я перечитал кучу книг по философии и психологии, но не написал ни одной путной строчки. Дар писательства оставил меня. Должно быть, он не хотел служить боли и отчаянию, которые я, желая или не желая того, так или иначе пытался выразить. Я много пил. Из четырех начатых в это время повестей не удалась ни одна. Я сам понимал это и бросил две из них, не закончив, с чувством несравненного облегчения…
Именно тогда в дневнике моем возник, а потом сделался постоянным, настойчивым, почти навязчивым мотив бегства. Казалось, я сам к себе примеривал эту возможность, то так, то иначе варьируя тему, и не осмеливаясь последовать примеру своих героев лишь потому, что в финале этих вариаций никогда не обнаруживалось ничего обнадеживающего. В лучшем случае это было исчезновение, растворение в молекулярном брожении мира, которое было, несомненно, лишь эвфемизмом смерти, которая все эти годы пристально наблюдала за мной, угадав подранка и предчувствуя возможную жертву.
Я описал попытку бегства в детство преуспевающего врача-психотерапевта, высосанного своими пациентами, опустошенного своей работой и своим успехом. Однажды с какою-то особой остротой приходит это чувство. Что-то неладное происходит с ним, привычные приемы самоконтроля не действуют, солнце взрывается у него в голове… A Momentary Lapse of Reason… Он не выдерживает, садится в машину, срывается, гонит – апрель, зеленый дым, магнитофон в кабине поддает адреналину, впрыскивая в кровь пульсации к месту случившейся песенки «Learning to fly»… Почему-то он оказывается на окраине своего детского мира, на опушке леса, который все тот же, что в детстве, и та же сосна с засохшей вершиной сторожит вход в зеленые чертоги…
Конечно, он понимает, насколько наивна эта попытка бежать вспять, но он здравомыслящий человек, он отдает себе отчет в том, что это, в конце концов, тоже своего рода терапия, и если он приехал сюда, значит, так нужно: ему необходимо интегрировать какой-то опыт, что-то вспомнить, или что-то найти, и его бессознательное само подскажет ему – что. Оказывается, что это – то древнее болото, спрятавшееся в самой лесной глуши, в котором когда-то воплощались все детские его представления о тайне, о настоящей тайне, состоящей из восторга и ужаса перед этим местом, которое простиралось во времени бесконечно, взращивая свои диковинные растения, издавая урчащие звуки, пузырясь ртутными сгустками газа, поднимающегося со дна черных бездонных окон болотной воды, населенное, несомненно, своими духами и похожими на духов совами… И вот он, взрослый и все понимающий человек, идет по пустому прозрачному лесу к этой таинственной чаше своего детства, к этому лесному оку, и с удивлением чувствует, что лес нежно, почти незаметно, как акварель, размывает запекшуюся глину забот, быта, минеральную горечь выгоревшей любви, черноту чужих исповедей, все то, что делало жизнь невыносимой, и он вдруг снова вспоминает бесконечность образов, вкрапленных детством в память, тот запах мира, тот цвет… Он ступает на болото почти счастливым, забыв, что болото полно талой весенней воды и тропинка между трясинами нет, не забылась, она просто не натоптана еще… Он оказывается в пространстве, где под ногами колышется земля, видит черное окно воды, в испуге шарахается в сторону и проваливается…
Он не думал, что может быть так, что это опасно.
Дурацкий порыв, всего лишь порыв, всего лишь шаг в сторону.
Ледяная жижа внизу. Он чувствует животом тяжелую, как цемент, пребывающую в вечном мраке жижу, беспощадно со всех сторон сдавившую его…
Воспаление легких.
Он пытается вырваться и проваливается по самые плечи.
И тут понимает, что не испорченный костюм, и не воспаление легких, а смерть.
Болото жмёт его и холод дикий, от которого вскоре совсем перестыло горло; холод, сочащийся через шею в голову, сводящий с ума…
Он делает еще один рывок – и понимает, что теперь над поверхностью осталось одно только его лицо. Некому было кричать, да и невозможно крикнуть, он видел только небо – огромный синий свод, простершийся над трясиной, по которому так изумительно красиво и с таким равнодушием к его гибели скользили белые облачка поднявшегося от весенней земли пара…
Детство и смерть – все угадано верно. Желание детской полноты бытия и невозможность достигнуть… Смерть. Я никогда не понимал раньше, почему в русских народных сказках погибших героев поливают сначала мертвой водой, а потом живой. Иногда необходимо умереть, «умереть от себя», чтобы ожить снова. Я пережил символическую смерть, отказавшись от имени: новые литературные пробы я стал писать и публиковать под чужими именами, поскольку «я», представляемое моим собственным, никак не желало расставаться с некоторыми усвоенными навыками письма, жаждой признания и мрачными воспоминаниями. На самом деле, чтобы «ожить» мне потребовалась изменить весь образ своей жизни, образ мышления и мирочувствования, смыслов, всего. И пока я не поменял всю кожу, я так и не мог нормально жить дальше. Ибо, отчего бы мы не бежали, в конце-то концов мы бежим от собственного ничтожества. Это духовная нищета, болезнь века, которой много было свидетельств и которая для многих одинаково плохо заканчивалась. Но, возможно, бросаясь прочь, обретешь что-то, чем сможешь обогатиться?
Это допущение развернулось вариацией классической истории некоего человека, который выходит из дома, чтобы вынести помойное ведро и не возвращается уже никогда. Я вдруг очень хорошо представил себе его – молодой докторант, готовящийся защищать диссертацию по философии дзен, в одно прекрасное утро, позавтракав и собравшись, как всегда, в библиотеку, выходит из темного, загаженного и исписанного какими-то отвратительными подростковыми откровениями подъезда в ясный, пронзительный, тревожный весенний день и внезапно чувствует совершенно явственное отвращение не только к дому, в котором он жил, не только к темному подъезду, но и ко всему, что прежде считал дорогим: даже к папке с бумагами, с записями своих мыслей, касающихся феномена внезапного просветления… Собственное затворничество в библиотеке покажется ему чудовищным в этот день; научные советы с коллегами по кафедре увидятся в каком-то удручающем свете, и даже мир дома, комнаты, рабочего стола покажется скучным, как заношенные домашние тапки, благодаря внезапно обрушившейся на него вместе с поразительной ясностью этого дня ужасной способности к макроскопическому видению вещей…
Может быть, он пережил просветление, а может, напротив, был просто засвечен, как фотобумага, но выйдя из дому, он отправится не в библиотеку, а почему-то на вокзал, где сам для себя неожиданно возьмет билет до недалекого города Рыбинска, где, вроде бы, по какому-то адресу жил его однокашник. На работе его исчезновение заметят не прежде, чем туда позвонит растревоженная жена, но в конце-концов и сослуживцы, и жена забудут о нем, ибо все мимолетно. Потом он поймет, что обольщался, что попал в какую-то воздушную яму времени, в какую-то дикую вспышку весеннего утра, которая сыграла с ним странную шутку; но желания вернуться назад все же не возникнет. Жене расскажут, что видели его в Коктебеле, выбирающим рыбу из скользких сетей, сваленных на корме рыболовного судна, где лежали еще две обросшие ракушками и водорослями греческие амфоры; в другой раз встретили возле Гурзуфа, собирающим камушки на берегу, и кто-то из знакомых, не без колебаний, даже окликнул его, с состраданием поглядев на изорванные шорты ученого: