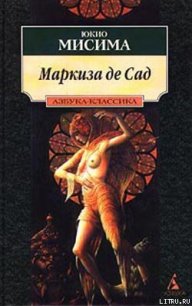Восток есть Восток - Бойл Т. Корагессан (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Как большинство японцев, Хиро считал живот (по-японски «хара») средоточием жизни, источником физической и духовной силы. Человек западный говорит: у него или у нее холодное сердце, горячее сердце или сердце разбито, сердце успокоилось и так далее. Японец же связывает сферу чувств с животом, который в его глазах является органом куда более важным. «Сердечная беседа» у него превращается в беседу «животом к животу» (хара-о авасэру). Злодей с «черным сердцем» становится злодеем с «черным животом» (хара га курой хито). На два дюйма ниже живота находится кикай тандэн, то есть духовный центр тела. И акт харакири — это символическое высвобождение духа, ки, из живота, главнейшего бастиона плоти.
Для Хиро живот имел еще большее значение, чем для обычных японцев, ибо еда была главным интересом его жизни. В школе мальчика мучили, на площадке для игр избивали, и единственным убежищем стали кондитерская, закусочная, кафе-мороженое. Усмиряя бунт желудка, Хиро чувствовал прилив силы и решимости. Со временем еда стала единственным средством чувственного самовыражения. Конечно, Хиро случалось переспать с какой-нибудь девушкой из бара или проституткой, но большого удовольствия подобные эпизоды ему не доставляли. Он никогда еще не влюблялся — в конце концов, ему было всего двадцать — и считал, что жизнь состоит только из работы, сна и еды. Сейчас он нуждался в еде. Просто подыхал от голода. Но что можно предпринять? Он восемь часов барахтался среди волн, как какой-нибудь марафонский пловец, и так выбился из сил, что не мог даже голову поднять. Хиро вяло подумал — не пожевать ли болотной травы, чтобы заглушить бурю в животе, а потом закрыл глаза и представил себе рубашку старика Куроды с размазанными по ней колобками риса.
Когда он снова проснулся, солнце висело над самыми кронами деревьев. Сначала Хиро не мог понять, где находится. Столько ярких красок, движения, запах тины. Сориентироваться помогла вода — начинался прилив. Ах да, это Америка, США. Прибывающая вода ластилась к подбородку, перекатывалась через живот, через плечи. С трудом Хиро приподнялся на локтях. Закружилась голова. Клейкая лента больно впивалась в грудь, левая голень саднила — кажется, он стукнулся о лодку тех поганых маслоедов, которые гонялись за ним в проливе. Неважно. Наплевать. Надо подняться на ноги и куда-то идти. Найти какой-нибудь дом, бесшумным привидением проскользнуть в окно, отыскать на кухне огромный холодильник, где американцы хранят то, что им нравится есть. Хиро представил себе белоснежного гиганта, набитого банками с маринованным укропом, хрустящими галетами, упаковками сочного мяса — всем тем, без чего американцы не могут жить. Вдруг кто-то несильно, но настойчиво дернул его за ляжку с внутренней стороны. Хиро замер. Маленький пурпурный краб висел у него чуть выше колена и с интересом гурмана рассматривал загорелую кожу, видневшуюся сквозь дыру в штанине. Краб был размером аккурат с рисовый колобок.
Хиро понял, что сейчас съест незваного гостя.
Какое-то время он не шевелился, боясь спугнуть добычу. Краб ни о чем не подозревал, побулькивал себе водой, шлепал губами (если это, конечно, были губы), почесывал глазки единственной здоровенной клешней. Хиро вспомнил котлеты из краба, которые готовила бабушка, белое сочное мясо, а к нему рис, огурчики… Тварь всполошенно задергала конечностями, но было поздно — Хиро сунул ее в рот прямо целиком. Панцирь оказался жестким и неаппетитным, вроде как пластмассу жуешь, но зато мякоть, крошечный солоноватый комок плоти, придал изголодавшемуся телу сил. Хиро тщательно обсосал разгрызенную скорлупку, потом похрупал ею и тоже проглотил. Неплохо бы найти еще одного краба.
Однако поиски не увенчались успехом. Правда, роковую ошибку совершил кузнечик — зеленая спинка, толстое желтое брюшко. Взял и скакнул Хиро на свитер. В следующую секунду он оказался схваченным и проглоченным. «Еще!» — завопила хара.
Хиро двинулся вперед, сквозь высокую жесткую траву. Она резала своими острыми стеблями ноги, руки, лицо, но он не замечал этого. Хиро шел как в трансе; гений обоняния, впервые снизошедший на него накануне ночью, вновь сладострастно завладел всем его существом. Гений ухватил Хиро за нос и властно повлек за собой прочь от берега, в тень мшистых деревьев, что росли по краям болота. Оттуда пахло пресной водой — застоявшейся, грязной, болотной, но какое это имело значение? А еще дальше, где-то на самом краю восприятия, возник и тут же исчез магнетический аромат шипящего на сковороде жира.
Был лучший час дня, солнце размягчело и стало похоже на большущий кус масла. Олмстед Уайт, правнук раба (который был сыном раба, который появился на свет в Западной Африке свободным человеком племени ибо), готовил себе ужин. Олмстеду стукнуло шестьдесят восемь, руки-ноги стали сухими и жилистыми, будто их кто провялил, а лицо сделалось что твоя глина — вот как его обжарило солнце, особенно утреннее, которое так ярко сверкает на волнах. Он тут родился, на острове Тьюпело, тут вырос, ходил в школу, прожил до старости. На материке за всю свою жизнь побывал, может, раз двадцать. На поле у Олмстеда рос маис, в огороде — помидоры, а еще он держал свиней, ловил рыбу, крабов, устриц, креветок. Когда же нужны были деньжата — на выпивку или там купить батарейку для розового транзистора, по которому так здорово слушать на вечерней прохладе репортаж с бейсбольного матча, — Уайт отправлялся к белым на виллы и зарабатывал сколько надо. Он так и не женился, всю жизнь — все утра, дни и вечера прожил с братом, таким же бобылем. Но Уилер помер, уж полгода как лежит на семейном кладбище, в дальнем углу сада.
В этот вечер играла любимая команда Олмстеда «Храбрецы; под хриплое рокотание приемника старик порезал огурцы и помидоры, приготовил салат из зелени, кинул на сковородку дюжину свежих устриц, сыпанул пшеничной и кукурузной муки, добавил кайеннского перца. Олмстед сейчас не думал ни о брате-покойнике, ни о племяннике Ройяле (сынок сестры Юлонии), с которым иногда допоздна смотрел музыкальные программы по Эм-ти-ви (ну и причесочки у нынешней молодежи — заглядение), да и к голосу диктора не особенно прислушивался — „Храбрецы“ в очередной раз дали маху, и тон репортажа стал совсем похоронным. Старик вообще ни о чем особенном не думал, пребывая в своем обычном состоянии легкого оцепенения. На сковородке потрескивал жир, в зарослях пели птицы, оконные стекла сияли солнечными бликами. По привычке Олмстед приготовил вторую тарелку, для Уилера. Когда стемнеет, когда звезды захолустной команды — Гант, Мерфи, Томас — будут окончательно посрамлены непобедимыми нью-йоркскими чемпионами, он сходит к брату на могилку, заберет вчерашнюю тарелку, пустую, и поставит новую.
Как все обитатели Свинячьего Лога, старый Уайт говорил на диалекте гулла, языке своих предков. В гулла множество заимствований из хауса, волоф, ибо, кимбунду и прочих западноафриканских наречий. Вместе с древними словечками сохранилась смутная лингвистическая память о далеком континенте, племенных обрядах и суевериях, столь популярных среди пращуров. Олмстед Уайт и сам был очень суеверен. А как же иначе жить человеку в мире, где ничего толком не поймешь, где ночь прямо нашпигована всякими привидениями, духами и голосами? Старик верил и в колдовство, и в заклятья, и в чары худу и джуджу, и в призраки, и в черный глаз, и в ведьм, которые могут напустить порчу, так что будешь потом сохнуть, как трава под солнцем. Поэтому Олмстед вовсю старался не обидеть дух покойника Уилера — то одежонку подарит, то колоду карт принесет, журнальчик, что-нибудь повкуснее к ужину. И упаси боже хоть одну ночь пропустить. Наутро тарелка всегда была вылизана начисто. Может, это еноты угощались или опоссумы, кабаны, бездомные собаки, вороны — кто его знает? Только сам Уилер мог бы ответить на этот вопрос.
Стало быть, на сковородке поджаривался бекон, и устрицы пахли так, что дощатая лачуга не уступала по части ароматов какому-нибудь шикарному ресторану в Чарлстоне, где все уставлено пальмами в кадках. Домик у Олмстеда был двухкомнатный, стены покрашены в синий цвет, на печной трубе изображена синяя же пирамидка — ведьм отпугивать. Олмстед пребывал в бездумном покое, рука переворачивала вилкой жаркое как бы сама по себе. Вокруг — тишина, только вот муха разжужжалась на противомоскитной сетке. Муха сражалась за свою свободу, а мир замедлил вращение, словно старая, потрепанная карусель. И тут Олмстед вдруг почуял, что в кухне есть кто-то еще. Старик стоял к двери спиной, возил вилкой по сковородке, радио все так же бухтело про незадачливого Дейла Мерфи — вроде бы ничего не изменилось, но Олмстед готов был поклясться, что сзади кто-то есть. Или что-то.