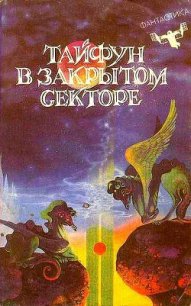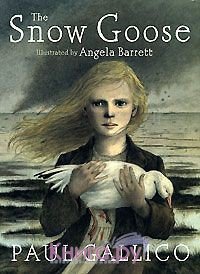Весенняя охота на гусей - Куваев Олег Михайлович (библиотека электронных книг TXT) 📗
– Журавли, – понял Санька.
Он еще сильнее пригнулся и двинул к ним почти бегом, но журавли стали уходить еще быстрее и вдруг тяжело взлетели, не переставая кричать. Они прошли метрах в десяти над ним, длинношеие громадные птицы, и Санька видел длинные концы маховых перьев на крыльях и черный тревожный глаз, обращенный к нему. Он все сильнее сжимал в руках ружье с взведенными курками, но что-то помешало ему стрелять. Он только смотрел на них и повторял про себя: «Ах ты, черт! Ах ты, черт побери!» Журавли прошли над ним и улетели дальше, трубноголосые и печальные. Но Санька уже забыл о них и снова шагал дальше, все так же согнувшись. Несколько раз в стороне прошли гуси. Они летели ему навстречу, но метров за триста вдруг делали разворот и проходили в стороне, как уверенные тяжелые фрегаты.
Санька не знал, сколько времени, в какую сторону он шел, и остановился только, когда пот стал едко заливать лицо и глаза. Он выпрямился и осмотрелся. Свинцовая лента Китама куда-то исчезла, и домики рыбалки, видные издалека, тоже исчезли. Кругом была ровная грязно-желтая тундра с редкими проплешинами снега в провалах низин.
Когда-то здесь была страна мелководных озер, образовавшихся на месте ледяных линз, но потом вода исчезла, просочилась сквозь земляные трещины, и получились «сухари» – гладкие сухие блюдца с обрывистыми берегами и редкой осокой на потрескавшейся глине дна. Между сухими озерами оставались перемычки кочковатой в мертвой прошлогодней траве тундры, и кое-где торчали группами и в одиночку курганной формы бугры.
– Надо залезть на бугор, – сообразил Санька. Он зашагал к ближнему. Идти было очень неловко. Ноги соскальзывали с травянистых голов кочек, и он несколько раз плюхнулся на бок, пока не понял, что гораздо выгоднее ступать между кочками.
Холм, который казался совсем рядом, все удалялся и удалялся; Санька, разозлившись, все ускорял шаг и вдруг заметил на вершине холма четкую фигуру человека.
Человек был высок, стар, худ и носат.
– Вы кто? – спросил его Санька, мучительно вспоминая, где он мог видеть этого человека раньше.
– Я пеку хлеб, – раздельно, с акцентом неведомого языка ответил ему человек, и Санька сразу вспомнил: этот старик в точности походил на де Голля, такого, какого Санька видел в газетных карикатурах.
– Где? – глупо спросил Санька.
– В поселке Усть-Китам, – серьезно ответил «де Голль». – Я уже десять, нет, больше лет пеку хлеб в поселке Усть-Китам.
– А… – сказал Санька.
Старик посмотрел на него и улыбнулся доброй улыбкой.
– Десять лет или больше я пеку хлеб и каждую весну сижу вот на этом холме. – Старик повел кругом рукой, как будто холм включал в себя все окрестности, вплоть до синих зубчиков гор на горизонте.
– Понятно, – сказал Санька. – Понятно.
– Я жил в старом Усть-Китаме, – сказал старик, – и два года изучал маршруты гуся, прежде чем нашел этот холм. Странно: у них свои постоянные маршруты, вроде как тропинки в лесу.
– Вы бывший ссыльный? – спросил Санька.
– Нет, я свободный. Всегда был свободен ехать куда мне вздумается, но мне нравится здесь. Я здесь знаю все, даже маршруты гусей. Что еще нужно старому Людвигу?
– Все-таки вы ссыльный, – сказал Санька.
– Очень смешно, – сказал старик. – Про ссыльных и ссылку больше всего любят говорить те, кто ничего в этом не понимает. Я кое-что понимаю.
– Понятно, – повторил Санька. – Понятно. А что же вы не уезжаете?
– Куда?
– В Москву, например, или еще куда-нибудь? Старик вздохнул с сожалением и посмотрел на Саньку.
– Во всяком другом месте мне заново придется изучать маршруты гусей, – сказал он. – И потом я здесь пеку хлеб.
Санька смолчал.
– Дать вам пару гусей? – спросил старик. – У меня пять. Будет тяжело нести.
Санька хотел отказаться, но потом вспомнил деда: «Неопытные вы еще, ребята, ох, неопытные», – и сказал:
– Спасибо, я возьму, – а про себя подумал: «Чудак какой-то. Десять лет в этой дыре и никуда не хочет».
…Санька издали почувствовал, что творится необычное. Звонкий дедов голосок, отдающий приказы, доносился до средины Китама, народ расхаживал по берегу.
– Эй, – крикнул ему Муханов, когда он подгреб к берегу, – рыба пошла. Шевелись, гусиная смерть.
На полосе отмели дед и Глухой мерно размахивали руками: набирали невод. Федор с гвоздями в губах наколачивал на корме одного неводника дощатую платформу.
…Было часа два ночи, когда они на двух лодках отправились вниз по течению, на облюбованное дедом место. Рассеянный свет лежал над Китамом. В этом свете лица у всех казались расплывчатыми, как на плохой фотографии.
– О господи, господи, – молился дед. – Не было бы коряг на дне, попортим невод-то. Дикое тут дно, неизвестное, не то что у нас.
На месте дед долго ходил по берегу и сокрушался:
– И бревна ведь могут быть, топляки и кочки, ох, дикое днище… – пока Славка Бенд не сказал:
– Молиться, дед, будем или начинать?
Дед огрызнулся, но скомандовал Глухому садиться за весла, остальные-то все тумак тумаком – выгребут вдоль течения. Все остались на берегу, поддерживая сизалевый канат. Глухой греб поперек реки, и дед взмахами скидывал невод, отделяясь от них бусинами поплавков. Они, казалось, уплыли совсем далеко, когда дед махнул рукой:
– Пошли!
– Давай, – сказал Федор.
Они потянули за канат, который вначале шел легко, а потом все труднее и труднее, так что ноги на ходу вдавливались по щиколотку в еще не просохшую после половодья глину. На том конце невода гнулся над веслами Глухой, а дед на корме трогал натяжение каната, видно, все молился, чтоб не было коряг, топляков и коварных кочек. Потом так же по взмаху дедовой руки они остановились, и Глухой стал загребать. Поплавки теперь выписали на реке параболическую кривую, и в центре их белел пенопластовый круг. Все смотрели на эту кривую, и Муханов сказал:
– Во какую спираль нарисовал командир наш.
– Спираль, ха, – как эхо откликнулся Толик. Мимо просвистела стайка уток. Толик машинально дернулся назад, где у него лежало ружье, но все-таки остался на месте. Славка Бенд нетерпеливо переминался с ноги на ногу, и всем передавалось его нетерпение.
– Чего стоите! – заплакал на лодке дед. – Подводи ближе! Медленнее. Стой! Подводи!…
Началась суматоха. Дед причитал и ругался тонким голосом, все метались, мешая друг другу. Только Глухой стоял в стороне и дрожащими руками вынимал пачку «Прибоя».
Наконец крылья были выбраны на берег, и показалась мотня в облаке сора и грязной воды. Внутри мотни бурлило и ходило ходуном.
– Есть! – резко сказал Славка. – Есть, язви ее в душу.
– Килограмм двести будет, – сказал успокоившийся дед.
Рыбу вытряхнули на берег, и она грудой зашевелилась на земле: мерные двухкилограммовые гольцы, длинномордые нельмы, серебристые чиры. Основную массу составлял голец.
– Ходовая рыба, – определил дед. – Давай, ребята, второй замет готовить. Ты, Федя, с Глухим набирай. Я посижу.
И oпять Федор и Глухой мерно взмахивали руками, переговариваясь односложно, как говорят люди, делающие согласованную работу. Дед сидел, гадая, будут ли коряги на следующей тоне, остальные перекидывали рыбу в лодку.
– Ах, гнида, – ласково разговаривал Славка с трепетавшей в руках нельмой. – Ах, гнида, попалась, – кидал ее в лодку и опять: – Ах, гнида…
С низовьев пришел несильный туман и как циркулем очертил видимое пространство метров на триста вокруг. Из тумана вырывались утки и боязливо проносились мимо людей.
Они сделали в эту ночь четыре замета, на последнем все-таки зацепили донную веревку.
– Тяни, – сказал Славка, но дед взвыл и кинулся отнимать канат. Смешно было, когда он грудью встал на дороге пяти здоровых мужиков: птица-мать, защищающая птенца, скряга, преградивший дорогу громиле, барьер по защиите священных прав.
Пока дед выяснял отношения с корягой, рыба из этого замета ушла почти вся, но все равно они нагрузили плоскодонку выше половины, и семижильный Глухой отправился в туман отвести лодку и пригнать новый неводник. Все уселись на перекур, оглушенные усталостью.